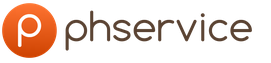Леонид Кременцов - Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты: учебное пособие
Коробок пустел.
Жало жгло. Била белая боль. Коготь исчез.
Он выставил уцелевший коготь к бою.
Стена огня.
Мир горел и сжимался.
Жало врезалось в мозг и выжгло его. Жизнь кончалась. Обугленные шпеньки лап еще двигались: он дрался.
…Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щепочками он взял пепельный катышек и выбросил на клумбу. ‹…›
Его трясло.
Он чувствовал себя ничтожеством" ("Паук").
Из других рассказов М. Веллера хочется отметить "Легионер", "Не думаю о ней", "Эхо". Автор оказался теперь в обретшей поспешную "вторичную" независимость крошечной стране, которую, как и иные некоторые, до второй мировой войны именовали "задворками Европы". Но безъязыкое внутриэстонское одиночество, возможно, не мешает ему работать и даже стимулирует творчество. Он реальный участник нашей литературы 90-х годов. Мы добросовестно и обстоятельно коснулись его работы. В то же время "раздувать" фигуру М. Веллера, как и фигуру С. Довлатова, нет оснований (а это делается – под эгидой все той же "другой литературы").
Друг Пушкина поэт и критик В. Кюхельбекер в свое время записал в дневнике: "…Какому-то философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину, сказала афинская торговка: "Вы иностранцы". – "А почему?" – "Вы говорите слишком правильно; у вас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши грамматики и риторики" . Возьмем и сравним могучий и своенравный язык В. Распутина, Е. Носова, А. Солженицына с обедненной и упрощенной довлатовской фразой (еще герой "Бедных людей" Достоевского горько сетовал: "слогу нет", "слогу нет никакого") или с излишне "правильной", несколько рафинированной фразой М. Веллера, иногда напоминающей "перевод с иностранного", пусть хороший, интеллигентный, но все-таки перевод. А литература – именно словесное искусство. Впрочем, и среди других писателей, творчество которых рассмотрено выше, кое у кого язык все-таки слабоват. Благодаря обширным цитатам, которые мы, чтобы нигде не быть бездоказательными, старательно приводим, читатели и сами могут получить об этом конкретное представление.
ПОЭЗИЯ 90-х ГОДОВ
Поэзия 90-х годов претерпела в своем развитии сложности еще большие, чем проза. Коммерчески стихи были заведомо "невыгодны". Случаются периоды резкого взлета общественного интереса к поэзии (20-е годы XX века, его 60-е годы), но интересующее нас время к подобным периодам причислить невозможно. Сравнительно с "доперестроечным" временем интерес к поэзии резко упал.
В издательском отношении поэтам в 90-е годы было несравненно тяжелее, чем прозаикам. Если многим модернистам и особенно "постмодернистам" время от времени оказывали спонсорскую поддержку различные частные лица, организации и "фонды" и их книги выходили, хотя обычно и микроскопическими в масштабах России тиражами, то поэты, работающие в русле национально-литературной традиции (в силу причин, на анализ которых здесь нет времени), как правило, не вызывали аналогичного интереса у толстосумов. Отсюда редкие эпизодические публикации таких авторов.
От Союза писателей никакой помощи не было, и проблема решалась каждым в соответствии с его личными возможностями – всякий выкручивался, как умел. (Так, моя единственная стихотворная книга середины 90-х "Красный иноходец" издана в 1995 году в Киеве моим бывшим учеником, открывшим там свое издательство.) Кроме того, для самой поэзии последнее десятилетие XX века было периодом в высшей степени кризисным. В писательском кругу поэты обычно отличаются особой душевной хрупкостью и ранимостью, их творчество в наибольшей степени зависит от жизненных обстоятельств, в которые автор поставлен судьбой. А эти обстоятельства в 90-е годы оказались повсюду удручающе однотипны и одинаково контрпродуктивны. Беспросветные беды страны, включающие в себя, как итог, личные беды, ощущение отсутствия каких-либо светлых перспектив – все это никак не стимулировало творческую работу. Так не раз бывало в прошлом, когда в силу тех или иных обстоятельств в обществе сгущалась атмосфера "безвременья". Но обсуждаемый период в данном плане вообще уникален. Многими поэтами на сей раз владела не некая преходящая "меланхолия". Их охватило глубоко пессимистическое умонастроение, вызванное нелепой и неожиданной гибелью родной страны, сломом всего жизненного уклада. Это полностью противоположно романтическому оптимизму поэзии послереволюционных 20-х годов.
20-е годы выявили литературных гениев и крупнейшие таланты XX века, завоевавшие немедленное признание во всем мире даже по зачастую плохим прижизненным переводам на иностранные языки (пример – прежде всего В. Маяковский). Поэзия 90-х не дала, на наш взгляд, ни новых великих имен, ни даже имен безусловно обнадеживающих. Она сильна в основном поэтами, начавшими работу ранее, в 70-80-е годы. Такое положение объективно создало льготные условия для тех же "постмодернистов". Их беспримерная активность в 90-е прямо связана с пустотой "поэтического пространства".
Мы не случайно ставим здесь и ниже слова, производные от термина постмодерн, в кавычки. В принципе круг приемов и методов, в литературе ассоциирующихся с данными словами (парафразис, вариация, стилизация, реминисценция, пародия и др.), относится к совершенно естественным компонентам писательского инструментария . Он великолепно использовался в прошлом, например в эпоху барокко, у нас в России – в пушкинскую эпоху (в частности, самим Пушкиным) и позднее в серебряный век. Но в 90-е годы XX века не выявилось ни одной новой истинно крупной – в масштабах великой русской литературы! – фигуры, которая бы по-современному одухотворила подобные приемы и методы. Авторы, к ним прибегавшие, к сожалению, пока не вызывают таких оптимистических надежд. В эпоху нормального литературного развития большинство из них читатель просто не заметил бы при всех попытках заинтересованных сил коммерчески "раскручивать" такие фигуры. Но развитие литературы было весьма ненормальным.
Не исключено, что кто-то из авторов, начавших печататься в 90-е, попадавших и не попадавших в поле зрения критиков, еще "выпишется" в будущем. Однако пока нет оснований для уверенных прогнозов такого рода и потому будем объективно отмечать сам факт появления в 90-е годы тех или иных новых имен и произведений, давая, однако, оценки в соответствии с нынешним уровнем их творческой состоятельности. Как литературовед, автор настоящего пособия профессионально должен так поступать, какое бы это ни вызывало у кого-нибудь личное раздражение.
Во-первых, это научно-художественная проза , на современном этапе достигшая особенных успехов в биографическом жанре. Большой интерес представляют жизнеописания крупных учёных, которые позволяют войти в круг идей той или иной науки, ощутить противоборство мнений, остроту конфликтных ситуаций в большой науке. Известно, что XX век – не время гениальных одиночек. Успех в современной науке чаще всего приходит к группе, коллективу единомышленников. Однако и роль лидера огромна. Научно-художественная литература знакомит с историей того или иного открытия и воссоздает характеры руководителя и его ведомых во всей сложности их взаимоотношений. Таковы книги Д. Данина о датском физике – "Нильс Бор", Д. Гранина – "Зубр", о сложной судьбе знаменитого биолога Н.В. Тимофеева-Ресовского и его же повесть "Эта странная жизнь" о математике Любищеве. Это и вернувшееся на родину повествование М. Поповского об удивительной, трагической, многострадальной и такой типичной для XX века судьбе выдающегося человека – "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга" (1990).
Во-вторых, это, условно говоря, бытовая проза , живописующая будни учёных и людей, их окружавших, во всем разнообразии проблем, конфликтов, характеров, интересных и острых психологических коллизий. Таковы романы И. Грековой "Кафедра" и А. Крона "Бессоница".
В-третьих, это книги, исследующие особенности технократического сознания , когда наука становится средством утверждения "сильной личности", попирающей нравственные принципы ради карьеры, привилегий, славы, власти. Таков нравственно-философский роман В. Дудинцева "Белые одежды" и книга В. Амлинского "Оправдан будет каждый час".
В годы тоталитаризма многие литературные жанры либо влачили жалкое существование, либо исчезали вообще. Так, строителям социализма оказалась ненужной сатира . Блестящие романы И. Ильфа и Е. Петрова подвергались запрету, о судьбе М. Зощенко и говорить не приходится. И только начиная с 60-х годов, постепенно, русская литература возвращала к жизни один из своих излюбленных жанров. Об её успехах свидетельствует талантливая плеяда сатирических дарований, появившаяся в 70-80-е годы: В. Войнович, Ф. Искандер, Гр. Горин, Вяч. Пьецух, И. Иртеньев, И. Ивановский и др.
Возродились жанры антиутопий – В. Аксёнов, А. Гладилин, А. Кабаков, В. Войнович, а также научной фантастики – И. Ефремов, А. и Б. Стругацкие, А. Казанцев.
Возник совершенно новый для русской литературы жанр фэнтези. Все большая роль в творческом облике литературы стала принадлежать мифам, легендам, притчам.
4
Поэтический бум 60-х годов остался да, видимо, и останется уникальным явлением в истории русской литературы. Все-таки А. Пушкин был прав: "…Поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде"26) . Поэтому возвращение поэтической реки после бурного половодья в обычные берега не может оцениваться как регресс.
Поэзия 70-80-х годов , лишившаяся массовой аудитории, не остановилась. Творческие поиски были продолжены, и результат говорит сам за себя.
Начало периода характеризуется преобладанием "традиционной поэзии" , представленной именами Ю. Друниной и С. Орлова, А. Тарковского и Л. Мартынова, Д. Самойлова и Б. Слуцкого, К. Ваншенкина и Б. Чичибабина, В. Соколова и Е. Винокурова. Не смолкли и голоса шестидесятников – А. Вознесенского, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко.
Ближе к сегодняшнему дню, сначала в андеграунде, а затем и открыто зазвучали голоса модернистов самых различных ориентаций. Традиции лианозовской школы были продолжены и развиты в поэзии метареалистов (О. Седакова, И. Жданов, Е. Шварц) и концептуалистов (Л. Рубинштейн, Д. Пригов, Н. Искренно, Т. Кибиров). Нашли своего читателя создатели иронической поэзии (И. Иртеньев, В. Вишневский, И. Ивановский).
Общая для литературы 70-80-х годов тенденция взаимодействия искусств обнаружила себя в оригинальных жанрах авторской песни (А. Галич, Н. Матвеева, В. Высоцкий и др.), рок-поэзии (А. Башлачев, Б. Гребенщиков, А. Макаревич и др.), видеом (А. Вознесенский).
Оригинальным, ярким событием в поэзии конца века стало творчество И. Бродского, удостоенного Нобелевской премии.
Поэзия этого времени представляет собой органический сплав в самом широком диапазоне реалистических и модернистских тенденций. Ей равно присущи новые ритмы, размеры, рифмы и опора на уже известные, традиционные образы и приемы.
Знаменательная особенность – возрождение духовной лирики (3. Миркина, С. Аверинцев, О. Николаева, Ю. Кублановский).
Русская поэзия, несмотря на страшный урон, понесенный в годы тоталитаризма, понемногу восстанавливается. Достаточно перелистать толстые журналы за несколько последних лет: много новых и полузабытых имен, много отличных стихов. Не кажется преувеличением попытка ряда критиков и литературоведов именовать стихи последних лет "бронзовым веком" русской поэзии. Однако язык – этот надежный и точный индикатор – свидетельствует: в обществе идут разные процессы. Да, ведется борьба за культуру, за духовность, за нравственность. Но язык! Язык неопровержимо доказывает, как ещё долог будет и труден путь. Н. Заболоцкий был прав: "Душа обязана трудиться"… Здесь спасение! Живое слово должно восторжествовать!
Творчество Д. Самойлова может служить одним из примеров эволюции художника в необходимом направлении. Настроение его ранней поэзии выразилось в поэтической строке: "Война, беда, мечта и юность". Единственный из военного, "неполучившегося", как он его называл, поколения поэтов-современников, Самойлов мало писал о войне.
Его кумиром, как и большинства поэтов его времени, в молодости был В. Маяковский. С годами он ушел от него к Пушкину и Ахматовой, от узкосоциальной тематики к общечеловеческой.
Самойлов – автор целого ряда поэтических сборников и поэм. Особое внимание обращает на себя книга под пушкинским названием "Волна и камень", в которой явственно обнаружились экзистенциальные мотивы, а излюбленная историческая тема выступила в характерно самойловской интерпретации.
Самойлов воспитывает своего читателя в духе свободных ассоциаций, парадоксов, неожиданных и странных поворотов судеб своих героев. При этом он мастерски владеет стихом, всеми его видами, рифмами, строфикой. Написанная им "Книга о русской рифме" – труд, единственный в своем роде.
Мне выпало счастье быть русским поэтом.
Мне выпала честь прикасаться к победам.Мне выпало горе родиться в двадцатом,
Проклятом году и в столетье проклятом.Мне выпало всё…27)
Самойлов скоропостижно скончался на поэтическом вечере, посвященном памяти Б. Пастернака
По прошествии недолгого времени стало очевидно, что Давид Самойлов – одна из авторитетных фигур в русской поэзии второй половины XX века.
5
Драматургия 70-80-х годов представляла собой весьма разнородную картину. С одной стороны, творческий подъём, пережитый театром в годы "оттепели", вдохновлял на новые успехи. Продолжали активно работать Товстоногов, Любимов, Ефремов, Волчек и другие талантливые режиссеры. Но представлять на сцене результаты своей творческой деятельности им становилось всё труднее: в стране воцарялся застой. Лишь единичные постановки вызывали у зрителя прежний энтузиазм. На первых порах драматургия как бы выстроилась в затылок прозе. Дело не только в том, что на подмостках появились в большом количестве инсценировки прозаических произведений. Драматурги тоже последовали за прозаиками и вывели на сцену персонажи, известные отчасти по романам и повестям.
Кажется, не было театра, который не обратился бы к пьесам И. Дворецкого и А. Гельмана. "Производственные" пьесы заполонили репертуар. И надо отдать должное драматургам: их продукция была поинтереснее, чем прозаические "шедевры". И. Дворецкому в пьесе "Человек со стороны" удался характер инженера Чешкова. Пьесы А. Гельмана "Протокол одного заседания", "Мы, нижеподписавшиеся" вызвали неподдельный интерес у зрителя. К Однако многочисленные попытки других драматургов-производственников подобного успеха не имели.
Второе место в театральном репертуаре тех лет принадлежало политической драме, жанру остроконфликтному, во многом публицистическому. Здесь лидерство закрепилось за М. Шатровым. Спектакли по этим пьесам назывались, как правило, "датскими", поскольку приурочивались во всякого рода юбилейным датам. Так, столетие В. Ленина в 1970 году открыло своеобразную драматургическую лениниану, не ограничившуюся одним годом. Со временем оценка деятельности Ленина изменялась. Это изменение можно проследить по пьесам М. Шатрова, цикл которых он назвал "Недорисованный портрет". Наибольшей популярностью пользовались его "Синие кони на красной траве".
Социально-психологическая драма возродилась благодаря появлению А. Вампилова, к сожалению, рано погибшего. Критика считала, что ему удалось "угадать" главного героя безгеройного времени. Он утвердил право театра на анализ души "средненравственного" персонажа ("Утиная охота"), Вампиловские пьесы породили целую волну подражаний, так называемую поствампиловскую драму (Л. Петрушевская, В. Арро, А. Галин, Л. Разумовская и др.) К концу 80-х годов поствампиловцы фактически определяли репертуар большинства театров.
Вслед за прозой театр обращается к мифу, сказке, легенде, притче (А. Володин, Э. Радзинский, Г. Горин, Ю. Эдлис).
Общая для литературы этого времени тенденция синтеза искусств в поэзии обнаружила себя в оригинальных жанрах авторской песни, рок-поэзии, видеом и т.п. В целом поэзия 1970-1990-х годов, как, впрочем, и вся художественная литература этого времени, представляет собой органический сплав реалистических и модернистских тенденций. Ей равно присущи яркие поэтические открытия, новые оригинальные ритмы, размеры, рифмы и опора на уже известные, традиционные образы и приемы. Примером может служить центонность, о которой уже шла речь в применении к прозе. Поэты отталкиваются не только от жизненных впечатлений, но и от литературных.
Современная поэзия - вся в движении, в поиске, в стремлении как можно полнее выявить грани дарования поэта, подчеркнуть его индивидуальность. И все-таки приходится признать, что в русской поэзии 1970-1990-х годов, несмотря на богатство и новизну жанров, наличие ярких творческих индивидуальностей, несомненное обогащение стихотворной техники, вакансия первого русского поэта, освободившаяся после смерти А. Ахматовой, пока все еще не занята. Последнюю треть XX столетия все чаще называют "бронзовым веком" русской поэзии. Время, конечно, проверит "степень блеска", но уже сейчас одной из важнейших характеристик эпохи следует признать необычайное многообразие, многоцветье и "многолюдье" поэзии этого периода.
Поэтическое слово всегда быстрее приходило к читателю (слушателю), чем прозаическое. Нынешнее же развитие коммуникационных систем - в условиях отсутствия идеологической (а нередко и моральной) цензуры - сделало процесс публикации свободным, мгновенным и глобальным (ярчайшее свидетельство - динамичное распространение поэзии в сети Интернет). Однако говорить о каком-либо поэтическом буме, подобном "оттепельному", не приходится. Говорить надо скорее о постепенном возвращении поэтического (и вообще литературного) развития в естественное русло. Публикующих стихи становится больше, читающих - меньше. А значит, формула Е. Евтушенко "Поэт в России - больше чем поэт" утрачивает свой вневременной смысл, локализуясь в конкретно-исторических рамках. Не настает ли время иной формулы, предложенной И. Бродским: поэт "меньше, чем единица"? В связи с этим возникает "проблема авторского поведения" (С. Гандлевский). Коль скоро идея общественного служения поэта уступает идее создания новых эстетических ценностей, то и поэту в реальной жизни, и лирическому герою в тексте все сложнее самоопределяться привычным, "классическим" образом. Трудно представить себе сегодня лик поэта-"пророка" - и "глаголом жгущего сердца людей", и "посыпающего пеплом... главу", и идущего на распятие с миссией "рабам земли напомнить о Христе" (варианты XIX в.). Но и "агитатор, горлан, главарь", и затворник, не знающий, "какое... тысячелетье на дворе" (варианты XX в.), в последние десятилетия в лирике не заметны. Кто же заметен?
Если не рассуждать об иерархии, не определять "короля поэтов", а искать наиболее оригинальные версии нового лирического героя, то в 1970-е годы на эту роль мог бы претендовать герой Ю. Кузнецова. Это поэт, "одинокий в столетье родном" и "зовущий в собеседники время"; это "великий мертвец", раз за разом "навек поражающий" мифологическую "змею" - угрозу миру; это в прямом смысле сверхчеловек: над человеком, в космосе находящийся и масштабами своими космосу соразмерный. Назовем этот вариант вариантом укрупнения и отдаления лирического героя. Напротив, ставшие широко известными уже в 1980-е годы поэты-концептуалисты (главным образом, Д. Пригов и Л. Рубинштейн), продолжая линию Лианозовской школы и конкретной поэзии, почти (или совсем) растворили свой голос в голосах вообще, в языке как таковом. Они то надевают некую типовую маску (Пригов в маске недалекого обывателя), то устраивают целое "карнавальное шествие" многоголосного "не-я" (Рубинштейн).
Совсем иной стиль авторского поведения в той среде, которую создает возрождающаяся духовная поэзия. В 1980- 1990-е годы в русле этой традиции активно и заметно работают З. Миркина, Л. Миллер, С. Аверинцев, В. Блаженных, о. Роман и др. Их объединяет традиционно-религиозное, близкое к каноническому понимание места человека в мире, и поэт в их стихах не претендует на какую-то особую выделенность. "Поэзия - не гордый взлет, | а лишь неловкое старанье, | всегда неточный перевод | того бездонного молчанья" (З. Миркина). "Неловкое старанье" в этих стихах очень точно передает христианское самоопределение поэта.
И образов лирического героя, и вариантов авторского поведения в современном поэтическом процессе очень много, и это объективное свидетельство не только "проблемности" вопроса, но и разнообразия художественного мира поэзии. Однако еще больше вариантов "собственно формальных": лексических, синтаксических, ритмических, строфических и т.п., что говорит уже о богатстве художественного текста. В формальной области экспериментов всегда было больше, нежели в содержательной, однако то, что произошло в последние десятилетия XX в., аналогов не имеет. Правда, чаще всего эти эксперименты имеют исторические корни, и есть возможность проследить их генезис.
Так, широко распространившаяся у нас (как и во всем мире) визуальная поэзия знакома и русскому барокко XVII столетия, и русскому авангарду начала XX в. (Подробнее см. главу "Визуальная поэзия".) Не менее популярные ныне свободные стихи (верлибр) в разных своих вариантах соотносимы то с русской средневековой традицией духовной песенной лирики, то с древними японскими стихотворными формами. Упомянув о визуальной поэзии, еще раз скажем о появлении вариантов песенного жанра - авторской песни и рок-поэзии. (Подробнее см. главу "Песенная лирика".) Столь очевидная эволюция в сторону жанрово-видового многообразия в современной лирике взывает к литературоведу, критику, да и к учителю: "единых стандартов" анализа нет! Особенно актуален этот тезис применительно к школе, которая, похоже, из одной крайности (тематический подход) бросается в другую (формально-стиховой). "Набор инструментов", конечно, нужен, но применять его всякий раз в полном объеме нет никакой необходимости. К каждому стихотворению следует подходить как к феномену, для понимания которого требуется всякий раз новая комбинация литературоведческих усилий, средств, способов. В самом общем виде этот алгоритм может выглядеть так:
1) выявить исток и характер образа-переживания (словесное рисование, повествование, суждение, звук в широком смысле);
2) вести анализ "по пути автора", т.е. пытаться определить, как разворачивался исходный образ в итоговый текст. Необходимо следить за тем, чтобы анализ содержательный и формальный не отделялись один от другого, чтобы без внимания не оставались ни художественный мир, ни художественный текст, ни (при необходимости) литературный и внелитературный контекст произведения. Замечательный пример такого анализа - работа И. Бродского "Об одном стихотворении" (1981), посвященная рассмотрению "Новогоднего" М. Цветаевой.
Про Бориса Рыжего грех не сказать, он умер в 2001, если че.
Несмотря на пестрое разнообразие индивидуальных поэтик, молодую поэзию 1990-х годов определяют две тенденции, постоянно пересекающиеся, взаимосвязанные и взаимообъяснимые:
1. Особая репрезентация поэтического «я», которое характеризуется прежде всего слабостью, уязвимостью, «тотальной неуверенностью».
2. Мета-позиция по отношению к Я-пишущему (не только к собственным текстам, но и к себе-поэту). «Человек, пишущий стихи», оказывается предметом рефлексии и изображения.
Эти две тенденции определяют своеобразие поэтики текстов молодого поколения, поэтов, формирующихся в 1990-е годы - Дмитрия Воденникова, Кирилла Медведева, Станислава Львовского, Марии Степановой, Евгении Лавут, Шиша Брянского, отчасти Веры Павловой, те свойства, к которым выводят актуальную поэзию поиски самоидентификации в пространстве «после постмодерна» (или «после концептуализма»)17.
Традиционно в критике эта поэтическая парадигма (как бы ее не называть - неомодернизм, неосентиментализм, постконцептуализм или иначе) характеризуется прежде всего серьезностью («ответственностью»), не-ироничностью, не-игровым характером поэтического высказывания, возрождением «лирического субъекта» («исповедальностью»), «эротичностью» (телесностью) поэтического текста. Представляется, что переходность новой актуальной российской поэзии, ее стремление отказаться, отойти от поэтики постмодерна позволяет интерпретировать, объяснить некоторые уже выделенные и частично описанные ее черты как основание некой единой поэтической системы.
Предметом изображения в лирике девяностых становится «человек, пишущий стихи»; а часто (у Дмитрия Воденникова, например) еще и процесс написания, вынесения «на публику» и взаимодействия написанного с поэтом и с публикой. В стихотворении существует не только одно «поэтическое „я“», но и «поэт», глядящий на него сверху, наблюдающий и оценивающий его (в отличие от концептуализма, где автор/поэт принципиально отсутствовал). Так буквально реализуется мета-позиции, осознанность поэтической работы. После постмодерна уже невозможно делать вид, что ты «просто пишешь стихи», хотя большинство авторов «молодого поколения» именно к этому и стремятся - так или иначе вырваться из «литературности» собственных текстов, вернуться к так называемому «прямому высказыванию»
Поэтов 90-х гг. отличает очень высокая степень рефлексии и осознанности того, что и как пишется:
«Для меня все-таки очень важно, кто на меня повлиял и что чем навеяно, я хочу, насколько это возможно, отделять свое, подлинное в моем мировосприятии от литературного, наносного. Это очень сложно. Когда я пишу, я как бы вижу себя насквозь (…)» (Кирилл Медведев19).
Во-первых, это многократное удвоение и умножение поэтического «я»: например, очевидное в текстах Дмитрия Воденникова или Марии Степановой. Мета-позиция обусловливает раздвоение пишущего: постоянная перемена точек зрения, диалог с самим собой, провоцирующий «тотальную неуверенность лирического субъекта», его раздвоенность, «близнечность»:
Куда ты, я? Очнусь ли где-то?
Что скажет туча или три
На то, как тут полураздета
И ты на это не смотри20 (Мария Степанова).
…и обратное мне, как полюс -
Стать не мной. Поменять лукошко.
(…) и увидеть себя на травке (Мария Степанова).
Я как солдат прихожу домой…
Накроет оно: кто я здесь и кто здесь он (Елена Фанайлова).
Диалог внутри текста между «я» у Д. Воденникова часто отмечено курсивным (заглавными буквами) начертанием «реплик» одного из «я».:
Так дымно здесь
и свет невыносимый,
что даже рук своих не различить -
кто хочет жить так, чтобы быть любимым?
Я - жить хочу, так чтобы быть любимым!
Ну так как ты - вообще не стоит - жить. («Как надо жить - чтоб быть любимым»)
Тексты Кирилла Медведева также фиксируют некоторую отстраненность от «поэтического „Я“», несколько иную, чем у Воденникова и Степановой, но все же четко явленную. Вводные фразы, скрепляющие его тексты - тавтологичны, не нужны. Они присутствуют для отстранения от поэтического «я» (и вместе с тем как бы настаивают на существовании поэтического «я», постоянно напоминают о нем: «это обо мне идет речь, это я все это переживаю»), вводят это «я» как объект рефлексии/описания, сигнализируют о том, что высказывание все же не совсем «прямое» - а «псевдопрямое»:
мне надоело переводить…
мне кажется я почувствовал…
меня всегда очень интересовал
один тип поэта…
меня всегда удивляет…
мне очень не нравится…
мне очень нравится когда…
я с ужасом понял…
я недавно понял…
Разрушение стихотворной формы у Кирилла Медведева - за счет взгляда на «поэтическое Я» сверху. Отстраненность от «я» разрушает, но и связывает текст, оказывается стержнем как-будто-не-поэтического текста. Мета-позиция (рефлексия) напрямую связана со слабостью «поэтического Я»:
я с ужасом понял
что никого не могу утешить.21
Во-вторых, вновь осознается слабость, уязвимость и неестественность («стыдность») самого положения поэта. Например, у Медведева жизнь профессионального литератора обозначается как «неестественная жизнь»22.
У Воденникова, в книге «Мужчины тоже могут имитировать оргазм» литература выступает как имитация, ложь («из языка, залапанного ложью»). Соотнеся название текста «Мужчины тоже могут имитировать оргазм» и строки оттуда же «Я научу мужчин о жизни говорить // Бессмысленно, бесстыдно, откровенно» (с явной отсылкой к ахматовскому «Я научила женщин говорить»), вероятно, можно попытаться интерпретировать это шокирующее и неоправданное на первый взгляд название: прямота и бесстыдность, откровенность и открытость стихов - это кажущаяся их прямота и честность, кажущаяся и лживая - потому что все это литература, имитация подлинности.
Мета-позиция, идентификация себя, своего «я» как поэтического, вернее, ее неизбежность обнажает литературность написанного, его включенность в обще-литературный контекст и - тем самым - слабость пишущего перед своим собственным текстом и Текстом вообще - при абсолютной заявленной интенции «прямого высказывания», честного (та же парадоксальная трагедия ахматовского «Реквиема» - она не случайно возникает здесь в качестве пре-текста: горе лирической героини, но и отстраненность от него, возможность его описания профанируют, снижают само это «горе»).
Поэтам девяностых свойственно «пренебрежительное», самоуничижительное отношение к своим текстам: «стишки» Станислава Львовского; «стихтворенья» Воденникова (эта редукция неоднократно повторяется в текстах Воденникова, хотя обычно они весьма ровны - в отличие от текстов Степановой, где подобная редукция, чаще всего в ударной позиции, в финале текста или конце строки - становится приемом, опознавательным знаком ее поэтики).
это стишки и ничего больше (Львовский)
Вот это мой стишок,
мой стыд, мой грех,
мой прах (Воденников).
«Стыд» Воденникова - стыд телесности и текстуальности (взаимосвязанных), стремление к «предельной простоте» (поэт=стриптизер):
Ведь я и сам еще - хочу себя увидеть
без книг и без стихов (в них - невозможно жить!) (Воденников).
Тот же «стыд» присутствует и у Станислава Львовского:
я пишу помногу но редко и до сих пор
не могу избавиться при этом от чувства вины
за то что трачу время впустую вместо того
чтобы заняться делом.
Поэзия Воденникова - постоянное стремление во вне, бегство от литературности; но поэт все равно возвращается обратно («Я падаю в объятья…»; стихотворение = объятья) в литературу. Мета-позиция, внутри-литературность связана с некоторой затрудненностью речи/существования:
Так - постепенно -
выкарабкиваясь - из-под завалов -
упорно, угрюмо - я повторяю:
Искусство принадлежит народу…
Это невольное и неизбежное (volens nolens) позиционирование себя в литературе, осознание себя в ее рамках постоянно сопровождается репрезентацией в тексте неких телесных («поэтического я») мучений, часто (поскольку телесность и текстуальность в актуальной поэзии связаны напрямую) оборачивается физическим разрушением и тела текста.
Вообще поэзии 90-х свойственна исключительная телесность поэтического «Я» (опять же в отличие от концептуальной поэзии): у Воденникова, у Веры Павловой, у Шиша Брянского. У Воденникова тело постоянно подвергается унижению/обнажению; у Шиша - физическому уничтожению; наслаждение, соитие у Павловой типологически схоже: все три вида телесных трансформаций ведут к порождению текста.
…что ни строфа - желание ударить,
что ни абзац - то просьба пристрелить (Воденников, «Четвёртое дыхание»)
… стихотворение - кончается как выпад
(не ты - его, оно - тебя - жует) (Воденников).
Шиш Брянский, поэтика которого (по крайней мере представление о сущности и происхождении поэтического дара) чуть ли не целиком вырастает из пушкинского «Пророка», бесконечно заставляет мучиться своего героя-поэта (в основе - традиционное мифологическое представление об умирающем/воскресающем поэте):
А меня отдельно Ты ударь
Клюшкою лучистою в Чело,
Чтоб Оно бы зазвенело, словно Колокол бы Царь23.
Я вмерзну в гулкую слюду,
Я распадусь на анемоны,
Святыми вшами изойду
И в жизнезиждущем аду
Баюнные услышу звоны.24
Слабость, болезнь, униженность - неизменные спутники поэтического «я». Соответственно, телесность текста оборачивается физическим разрушением, слабостью тела и текста:
Тело то, сотрясаемо икотой…
То прозрачный ноготь сгрызен в корень…
…и гуляю в собственном ущербе…
С места не встану! Боюся: нарушу
Шаткую архитектуру свою (Мария Степанова)
болею заболеваю но говорю здоров (Станислав Львовский)
Озноб, обнимающий талью (Мария Степанова)
юлия борисовна дорогая доктор
вашему больному что-то не здоровится (Алексей Денисов)
я старею лысею болею (Алексей Денисов)
вся моя жизнь
освещена болезнью (Кирилл Медведев).
Уязвимость «поэтического я», рефлексия и отстранение от него и разломленность текста постоянно пересекаются. Чтобы состояться в качестве стиха, текста, оно должно быть ущербным, «хромым», безголовым25:
Под которою кроватью буду,
Как в шатер удаляется шах,
Обезглавливать каждую букву
Из в не тех позвучавших ушах (Мария Степанова)
«В течение семидесятых и восьмидесятых годов русским обществом овладела особенная стихомания, выразившаяся в появлении несметной массы молодых поэтов никакие издания не продавались так ходко и быстро, как стихотворные сборники любимых поэтов». Так охарактеризовал А. М. Скабичевский наступление новой эпохи в истории русской поэзии, начало которой положили 70-е годы.
Уже самый беглый просмотр поэтических сборников крупных русских поэтов убеждает в справедливости этих слов. После бурной «поэтической эпохи» 50-х гг., резко поднявшей престиж поэзии, в чем-то потеснившей тогда гегемонию прозы, начиная с 1863 г. поэтическая волна заметно иссякает. Наступают «сумерки» русской поэзии. Почти не пишут стихов А. А. Фет (1820–1892), А. Н. Майков (1821–1897), Я. П. Полонский (1819–1898), А. Н. Апухтин (1840–1893), К. К. Случевский (1837–1904), А. К. Толстой (1817–1875). В эти годы выдерживает натиск прозаических жанров лишь поэзия Некрасова. Но лучшие ее достижения связаны не с лирическими стихами, а с крупными жанровыми формами: «Рыцарь на час» (1860), «Коробейники» (1861), «Мороз, Красный нос» (1863). Наступает время, когда о Фете, например, критика вспоминает не иначе как в прошедшем времени. И Фет действительно уходит из поэзии, превращаясь в рачительного хозяина - Шеншина. Не случайно именно тогда он создает нашумевшие своей откровенной консервативностью очерки «Из деревни».
В 70-е гг. ситуация изменяется. Общественная потребность в поэзии возрастает. Скептический взгляд на поэзию исчезает даже в среде революционно настроенной молодежи, еще не так давно с задорной прямолинейностью отмахивавшейся от «лепетания в стихах». Впервые в истории России стихи начинают звучать с эстрады: так велика окажется их популярность. И отныне ни одно из тайных революционных собраний не обойдется без чтения стихов и коллективного исполнения революционных песен.
В это время как бы возрождаются к новой литературной жизни канувшие в лету имена: значительно оживляется творческая деятельность Фета, Полонского, Майкова, Толстого. Сошедшие со сцены Апухтин и Случевский вновь обретают поэтический голос. Появляется целая плеяда новых поэтов некрасовского направления - поэты революционного народничества, суриковцы, - а в конце десятилетия - С. Я. Надсон (1862–1887), П. Ф. Якубович (1860–1911), Н. М. Минский (1856–1937), А. А. Голенищев-Кутузов (1848–1913). Как объяснить очередной прилив поэтических сил? Какие процессы в истории русской литературно-общественной жизни способствовали их пробуждению? Не было ли в развитии самой литературы на рубеже 60–70-х гг. каких-то специфических процессов, пробудивших к жизни дремавшие до времени возможности поэзии?
Известно, что у Л. Н. Толстого в 70-е гг. после длительного перерыва появляется вторичное увлечение лирикой Фета, и как раз в тот момент, когда в толстовской прозе совершаются очень существенные изменения. В «Анне Карениной» изображается распад «мира»; эпические стихии «Войны и мира» вытесняются драматическими. Б. М. Эйхенбаум в книге о творчестве Л. Н. Толстого 70-х гг. показывает, как нарастает при этом в толстовской прозе удельный вес лирической образности, аналогичной символике поздних фетовских пейзажей. «Ночь, проведенная Левиным на копне описана по следам фетовской лирики. Психологические подробности опущены и заменены пейзажной символикой: повествовательный метод явно заменен лирическим Толстой, ища выхода из своего прежнего метода ориентируется в „Анне Карениной“ на метод философской лирики, усваивая ее импрессионизм и символику». Здесь неточно лишь одно. «Импрессионизм» в фетовской лирике, изображавшей мимолетные состояния в душевной жизни человека, привлекал Толстого не в 70-е, а в 50-е гг. В 70-е гг. Толстого-романиста привлекают в лирике Фета иные, никак не связанные с «импрессионизмом» качества: пейзажная символика, по-фетовски смелое соединение конкретных поэтических деталей с космически широкими обобщениями. И лирика Фета именно в этот период теряет «импрессионистическую» непосредственность прошлой эпохи и как бы идет навстречу потребностям толстовской прозы.
Не потому ли осмеянный шестидесятниками за дерзкие столкновения бытовых и философских образов поэт К. Случевский в 70-х гг. начинает обретать имя и популярность? В эпоху «Анны Карениной» и «Братьев Карамазовых» попытки «прорваться» сквозь быт к философской многозначности осознавались уже как эстетически правомерные и актуальные. Говоря о поздних романах Достоевского, Случевский находил в них сгустки почти поэтической, концентрированной образности, пригодной для создания целого цикла своеобразнейших стихотворений. Он назвал эти места «яркими цветными камешками» на «широких плоскостях» романов Достоевского. Но подобными же «цветными камешками» пестрит и толстовская «Анна Каренина» (сцены косьбы, скачек, символика вокзалов, раковина из облаков, увиденная Левиным на копне, и т. д.). Само развитие русской прозы 70-х гг. побуждало к возрождению поэтическую образность, способную от конкретных и повседневных деталей подняться к емкому художественному обобщению.
И вот Случевский, поэт более прочно укорененный в быте, чем А. Фет, создает в 70-е гг. оригинальный жанр психологической новеллы, осваивая поэтические открытия фетовской лирики. А сам Фет, по природе своего лирического дарования чуждающийся больших повествовательных жанров, пытается «интегрировать» отдельные душевные состояния не в лирических циклах (как было в 50-е гг.), а в коротких стихотворениях. Случевский же на основе более сложного синтеза, захватывающего быт, создает новеллу с живыми и сложными человеческими характерами - «В снегах» (1879). Одновременно со Случевским к жанру новеллы в стихах, соединяющему некрасовскую сюжетность с фетовским проникновением в психологические состояния, обращается Голенищев-Кутузов. А. Н. Апухтин пишет лирическую новеллу «С курьерским поездом» (начало 70-х гг.), а затем создает цикл-«роман» «Год в монастыре» (1885).
Жанр психологической новеллы не случайно оформляется в 70-е гг., на том этапе развития русской поэзии, когда «диалектика души» в прозе подготовила почву для создания психологически утонченного образа человека в более сжатом и емком поэтическом искусстве.
В поэзии 70-х гг. по-прежнему сосуществовали в полемике друг с другом два направления: некрасовское, гражданское, и фетовское, направление «чистого искусства». Борьба между ними не только не ослабела, но напротив, заметно усилилась, драматическая напряженность в их противостоянии достигла апогея. И одновременно внутри каждого из направлений обнаружились свои собственные противоречия, последствия которых нашли отражение в русском искусстве 80–90-х гг. В творчестве русских поэтов 70-х гг. даже при самом беглом знакомстве с ним поражает обилие поэтических деклараций. Бо́льшая часть стихов Фета о назначении поэта и поэзии создана в 70–80-е гг. Именно тогда у Фета появляется внутренняя потребность постоянно отстаивать свою позицию поэта-олимпийца («Музе», «Пришла и села…», 1882; «Ласточки», 1884; «Одним толчком согнать ладью живую…», 1887), причем сама эта позиция существенно изменяется, становится все более «агрессивной» и элитарной. Если в «Музе» 1854 г. Фету чужда гордая богиня искусства и мила Муза женственная, домашняя, то в конце 70-х - начале 80-х гг. Муза Фета предстанет «на облаке, незримая земле, в венце из звезд», как «нетленная богиня».
Аналогичная эволюция ощутима и в поэтических декларациях Майкова. В стихотворении 40-х гг. «Октава» поэт, предостерегая искусство от книжной мудрости, учит творца прислушиваться «душой к шептанью тростников». А в конце 60-х гг, «возвышенная мысль» его поэзии «достойной хочет брони».
Богиня строгая - ей нужен пьедестал, И храм, и жертвенник, и лира, и кимвал…
Параллельно с изменением поэтических деклараций существенно изменяется сам облик поэзии школы «чистого искусства». В лирике Фета свободные переливы «природных» и «человеческих» стихий вытесняются нарастающим драматическим напряжением. Поздний Фет стремится к максимальному расширению образных возможностей поэтического языка. В стихотворении «Горячий ключ» (1879), например, в «образотворчество» вовлекаются все поэтические ресурсы слова - вплоть до его звукового состава - и в пейзажной картине горного ключа ищется прямой символический смысл. В 70-е гг. у Фета по-прежнему сохраняется традиционная тема мгновенности, мимолетности неповторимых «мигов» бытия. Но сам образ мгновения становится иным. Если раньше его лирика ловила время в микроскопических отсчетах, секундных состояниях, то в 70-е гг. все чаще и чаще к мгновению сводится вся жизнь человека. Стихотворение «Когда б в полете скоротечном…» (1870) содержит образы скоротечных мгновений детства, юности, молодости, старости, из которых складывается образ скоротечного мгновения жизни в целом, причем от конкретных деталей Фет прямо и решительно идет к громадному художественному обобщению: от «детей, прудящих бег ручья», - к неповторимому образу детства, к целой эпохе в жизни человека.
Вместе с тем именно в 70-е гг. становится особенно ощутимым внутренний драматизм позиции поэта «чистого искусства». С укрупнением образных обобщений «чистая поэзия» лишается полнокровных, живых связей с действительностью, которые и в 50-е гг. были крайне обуженными и локальными. Этот драматизм незамедлительно сказывается в своеобразной «дематериализации» многих стихов поэтов «чистого искусства». В поэзии Фета, например, нередко теряется свойственная ей ранее поэтическая зоркость в реалистическом воспроизведении художественной детали. В стихотворении 1854 г. «Первая борозда» образ пахоты еще по-фетовски чист и «материализован» в обилии тонко схваченных, крупным планом зафиксированных деталей. Но уже в 1866 г. в стихотворении на ту же тему («Ф. И. Тютчеву») в связи с укрупнением масштаба восприятия мира заметно приглушается и живописная, пластическая точность пейзажных зарисовок:
На плуг знакомый налегли Все, кем владеет труд упорный; Опять сухую грудь земли Взрезает конь и вол покорный…
Все стихотворение держится на устойчивых поэтических формулах («знакомый плуг», «упорный труд», «сухая грудь земли»). Появляется странная, хотя и объяснимая, нечуткость Фета к частностям, мелочам сюжета. Живой «пахарь» стихотворения 1854 г. сменяется, например, «сладко смущенным тружеником», улыбающимся «сквозь сон под яркий посвист соловьиный». В контексте стихотворения 1866 г. «Ф. И. Тютчеву» такое пренебрежение конкретными деталями, разумеется, оправдано. Речь идет не только и не столько о пахаре, сколько о труженике вообще, о всех, «кем владеет труд упорный». Но стремление Фета к широкому охвату мира поэзией неизбежно обнаруживает скрытый драматизм. Символизируя деталь, Фет часто лишает ее конкретной изобразительности. В 70-е - 80-е гг. искусству Фета явно недостает многогранных и многозвучных связей с миром. Обрести же эти связи можно или ценой отказа от позиции гордого олимпийца, чего Фет не только не может, но и сознательно не хочет делать, или ценою лирического напряжения образной системы - вплоть до символизации поэтического языка. Поэтому в стихах Фета 70-х гг. наряду с подлинными поэтическими шедеврами появляются вещи бесплотные, художественно неполноценные.
Так на новых путях развития русской поэзии «чистое искусство» не только максимально мобилизует, но и начинает исчерпывать свои внутренние возможности. И хотя здесь еще рано говорить о кризисе «чистой» поэзии, симптомы его уже налицо.
Аналогичную эволюцию совершает в 70-е гг. А. Н. Майков. Цикл «Мгновения» (1858) мог возникнуть лишь в 50-е гг. Именно тогда поэт создает изумительные по своей чистоте и пластичности «Рыбную ловлю» (1855), «Весна! выставляется первая рама…» (1854), «Сенокос» («Пахнет сеном над лугами…»). В 70-е гг. все становится иным. «Достойной броней» оберетая себя от действительности, поэзия Майкова чуждается быта. Эпикурейски-артистическое ощущение мира, характерное для 50-х гг., сменяется религиозным настроением, культом аскетизма и самоограничения (циклы стихов «Вечные вопросы», «Exelsior», «Из Аполлодора Гностика»). Из поэм Майкова в эти годы исчезает обилие вещных, колоритных зарисовок исторических эпох, цветистая и пышная декоративность. В исторических поэмах Майкова 70-х гг. внимание переключается с частных, детализированных фактов истории на внутренний ее смысл. Повышается интерес к древней мифологии - скандинавской, славянской, христианской.
Устойчивое внимание сохраняет поэт к традиционной в его творчестве античной теме. Но и здесь происходят существенные изменения. Поэмы Майкова на античные сюжеты лишаются былой пластичности и скульптурности, любования внешними формами жизни и быта человека античности. Античная тема в 70-е гг. философски сгущается. В трагедии «Два мира» (1872, 1881) поэт ставит перед собой задачу создания обобщенного героя античности, вмещающего в себя все, «что древний мир произвел великого и прекрасного». Симптоматичен в историческом контексте современной Майкову эпохи его интерес к поздней античности, к нравам Рима времен упадка. В пейзажной лирике Майкова все чаще появляется прямое олицетворение и аллегория, идущие на смену живописной декоративности, колористической ясности и чистоте («Маститые, ветвистые дубы», 1870; «Весна», 1881, и др.).
Решительно изменяются в эти годы и принципы циклизации лирических стихов в поэзии Майкова, о чем свидетельствует, например, судьба лирического цикла «Мгновения». Тематический состав цикла, созданного в 50-е гг., довольно многообразен. Рядом с демократической, деревенской темой здесь уживаются стихи интимно-лирические, составляющие своего рода «цикл в цикле», который можно было бы назвать «Из прошлого». Здесь же располагаются стихи о назначении поэта и поэзии, которые перебиваются элегическими медитациями. В цикле отсутствует не только тематическое, но и жанровое единство. Тем не менее это не случайная подборка стихотворений, а глубоко продуманное художественное целое, напоминающее своей композицией эпическую поэму. В «Мгновениях» есть движущийся сюжет: наступление весны, когда выставляется первая рама и в лесу расцветает подснежник, затем переезд на дачу, цветущая сирень, а далее - летние поля, зыблющиеся цветами, пение жаворонков, горячая сенокосная пора («Сенокос», «Нива»), наконец грустные дни осени («Ласточки», «Осень», «Мечтание»), возвращение в чуждый поэту город, холодное дыхание зимы и уход в согревающие душу воспоминания. От этого легким контуром намеченного сюжета совершаются разного рода отступления: поэт воспевает первую юношескую любовь, предается элегическим размышлениям о скоротечности земной жизни, думает о назначении искусства и т. д. «Мгновения» - своеобразная поэма, воссоздающая многогранный эпический образ завершенного жизненного цикла, который можно воспринимать в разных планах - как в бытовом (поэма о годовом цикле в жизни природы и человека), так и в отвлеченно-философском: юность (весна), молодость (лето), зрелость (осень), старость (зима).
В 1872 г. выходит третье издание стихотворений Майкова, исправленное и дополненное автором. Поэт совершает большую творческую работу по очередной перегруппировке стихов в лирические циклы. Перемены в художественных вкусах и поэтическом мироощущении Майкова этих лет незамедлительно сказываются и на судьбе лирического цикла «Мгновения». Майков строго распределяет входившие в него стихи на шесть независимых друг от друга однотемных композиций. Так возникает лирический цикл «На воле», в который входят стихи о природе. Интимная лирика образует отдельную лирическую композицию под названием «Из дневника». Стихи с демократической тематикой («Сенокос», «Нива», «Летний дождь») составляют основное ядро лирического цикла «Дома». Стихи о назначении поэта и поэзии переходят в раздел «Искусство». Элегическая лирика отпочковывается в самостоятельный цикл «Элегии». Циклы Майкова приобретают в 70-е гг. бо́льшую композиционно-тематическую четкость и целеустремленность за счет утраты той тематической широты и эпической универсальности, которая была их специфическим качеством в 50-е гг.
Как бы вторя Фету и Майкову, А. К. Толстой в немногочисленных лирических стихотворениях 70-х гг. часто говорит о внутреннем драматизме самого дара поэтического чувствования:
С моей души совлечены покровы. Живая ткань ее обнажена, И каждое к ней жизни прикасанье Есть злая боль и жгучее терзанье.
Фанатическая сосредоточенность позднего Толстого на искусстве, красоте, замкнутость в них и только в них всех жизненных сил поэта без остатка - явление, характерное в той или иной мере для всех поэтов «чистого искусства» эпохи 70-х гг. «К черту здоровье, лишь бы существовало искусство, потому что нет другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кроме искусства!» (IV, 445). Эти настроения Толстого нашли отражение не только в прямых поэтических декларациях и переписке. Ими пронизана поэма «Портрет» (1874). В балладах Толстого они проявляются по-своему - в усилении ярких живописных деталей, в субъективной напряженности цветовых образов.
В условиях резкого идеологического самоопределения двух поэтических направлений особенно драматичным оказалось положение поэтов «без пристани», колеблющихся между враждующими друг с другом лагерями. Такова судьба Я. П. Полонского. В 1871 г. он издает сборник «Снопы», встреченный уничтожающей критикой «Отечественных записок». Автор критической статьи - М. Е. Салтыков-Щедрин - говорит о неясности миросозерцания Полонского, которая сводит к нулю всю творческую деятельность художника. И даже далекий от революционного демократизма И. С. Тургенев тоже советует Полонскому как можно скорее определить свою позицию: «…дай бог, чтобы твое „лавирование“ довело тебя, наконец, до пристани».
В 1876 г. в поэтическом сборнике «Озими» Полонский довольно робко пытается найти союз с демократами («Блажен озлобленный поэт…»), но одновременно решительно с ними полемизирует («Письма к музе»):
Мой Парнас есть просто угол, Где свобода обитает. Где свободен я от всяких Ретроградов, нигилистов, От властей литературных И завистливых артистов.
Попытка встать над временем, освободиться от его неумолимых требований приводит поэта к ощущению внутренней беззащитности. Лирика Полонского 70-х гг., пожалуй, наиболее полно выражает острое чувство разлада с миром и мучительного одиночества («Полярные льды», 1871; «Ночная дума», 1875; «На закате», 1877). Без сомнения, эти мотивы в поэзии Полонского связаны с особенностями времени, с эпохой буржуазного разобщения людей. О зле разобщения поэт прямо и недвусмысленно говорит в стихотворении «Рознь» (1871).
Но далее горьких сетований на судьбу поэт не идет, так как в сущности отступать ему некуда, остается лишь стоически переносить «ухабы» на жизненном пути («В телеге жизни», 1876). В лирике Полонского заметно иссякают мотивы народной песни, сказочных и мифологических образов, цыганского романса, которые приводили его в 50-е гг. к созданию поэтических шедевров - «Ночь» (1850), «Песня цыганки» (1853), «Колокольчик» (1854). Попытки выйти к народной теме завершаются в 70-е гг. неудачами («В степи», 1876), поэту изменяет свойственная его мироощущению 50-х гг. «простодушная грация» (И. С. Тургенев).
Но именно чувство одиночества перед равнодушным и холодным миром, надвигающимся на поэта, пробудило в его творчестве 70-х гг. обостренную чуткость к чужому страданию. Не случайно поэтической вершиной его лирики этого десятилетия оказались проникновенные стихи «Узница» (1878):
Что мне она! - не жена, не любовница, И не родная мне дочь! Так отчего ж ее доля проклятая Спать не дает мне всю ночь! Спать не дает, оттого что мне грезится Молодость в душной тюрьме, Вижу я - своды… окно за решеткою, Койку в сырой полутьме… С койки глядят лихорадочно-знойные Очи без мысли и слез, С койки висят чуть не до полу темные Космы тяжелых волос.
Поэтический эффект этих стихов - в смелом соединении традиционных романтических образов с конкретными деталями тюремного быта. «Молодость», «душная тюрьма», «лихорадочно-знойные очи, без мысли и слез» соседствуют здесь с «койкой в сырой полутьме», с «окном за решеткою», с «космами тяжелых волос». В стихотворении отсутствует повествовательный сюжет, мелочи и подробности жизни и быта девушки в арестантской камере. Все это было в первоначальной редакции «Узницы», но оказалось ненужным в окончательной. От бытовой детали («койка») и детали внешнего облика героини («очи») поэт идет к образу жестоко поруганной молодости и шире - к национальному типу русской женщины с ее «проклятой долей», безрадостной судьбой.
В русской поэзии 70-х гг. вообще формируется новое ощущение связи прошлого с современностью. Это сказывается во всем, начиная с поэтического языка и кончая исторической тематикой. В сравнении с эпохой 50-х гг. искусство «семидесятников» более отягощено «литературностью». Поэзия этих лет живет постоянным чувством связи современной поэтической культуры с культурою прошлых эпох. Ей близок юный Пушкин с его романтическими порывами, в ней слышны отзвуки декабристской поэзии и ее образного языка, ей не чужд романтический пафос творчества Лермонтова. Тот же Полонский создает в 70-е гг. поэму в духе лермонтовского «Мцыри» - «Келиот», поэму явно неудачную, но примечательную с точки зрения литературных вкусов эпохи.
Исторические хроники и драмы А. Н. Островского кажутся А. К. Толстому излишне перенасыщенными внесценическими персонажами, «безо всякой необходимости для движения драмы» (IV, 311). Толстого в его поздних былинах и балладах интересует не столько полнота воссоздания прошлых эпох истории, сколько нравственный урок, который можно из них извлечь для современности. Его не удовлетворяет «эпическая» редакция былины «Садко» с ее перегруженностью деталями, с развернутым повествовательным сюжетом. Взамен появляется другая редакция, которую сам поэт называет «лирико-драматической». Поэта 70-х гг. занимает более жизнь истории в сознании его современников, отношения прошлого с настоящим.
Для А. К. Толстого в эти годы окажется действенным и значимым идеал аристократической оппозиции как к бюрократической, правительственной, так и к революционной, демократической «партиям» («Поток-богатырь», 1871). Революционеры-народники, напротив, попытаются найти в историческом прошлом народа те идеалы, которые могут помочь им в революционной пропаганде среди крестьянства («Илья Муромец», «Стенька Разин», «Атаман Сидорка» - поэмы на исторические сюжеты С. С. Синегуба). Но в обоих случаях история воспринимается как факт, находящий непосредственное продолжение в современности. Таков же в сущности историзм и некрасовских поэм декабристского цикла («Дедушка», «Русские женщины»).
У поэтов «некрасовской школы» в 70-е гг. тоже возрастает число поэтических деклараций, причем позиция гражданского поэта не менее остро драматизируется, только суть этого драматизма оказывается иной. Ведь и в практике революционной борьбы тех лет на смену «разумному эгоисту», демократу-шестидесятнику приходит человек обостренного этического сознания, фанатик революционной идеи. Внутренняя цельность личности в новых исторических условиях отстаивается ценой более сурового аскетизма. Вспомним в этой связи известные некрасовские строки:
Мне борьба мешала быть поэтом. Песни мне мешали быть бойцом.
Но предпочтение и теперь, и даже более решительное, Некрасов отдает поэту-борцу. Все чаще Некрасов говорит о нем, как о «гонимом жреце» гражданского искусства, оберегающем в душе «трон истины, любви и красоты» (II, 394). Идею единства гражданственности и искусства приходится теперь постоянно и упорно отстаивать, вплоть до освящения ее традициями высокой поэтической культуры прошлых лет. Так открывается новая перспектива обращения Некрасова к Пушкину. Некрасовская «Элегия» (1874) насыщена патетическими интонациями пушкинской «Деревни». В поэме «Княгиня Волконская» (1872) впервые у Некрасова появляется живой образ Пушкина как гражданского поэта. В позднем творчестве Некрасов-лирик оказывается гораздо более «литературным» поэтом, чем в 60-е гг., ибо теперь он ищет эстетические и этические опоры не только на путях непосредственного выхода к народной жизни, но и в обращении к историческим, накопленным культурным ценностям. Свои собственные стихи о сути поэтического творчества он осеняет авторитетом Шиллера («Поэту» и «Памяти Шиллера», 1874), свои представления об идеале гражданина - образами Христа и пророка («Н. Г. Чернышевский» («Пророк»), 1874), свой анализ народной жизни в «Кому на Руси…» - прямыми фольклорными заимствованиями. Этот поворот и тематически обозначается - обращение к подвигу декабристов и их жен в поэмах декабристского цикла, обращение к друзьям, уносимым борьбой, в лирике:
Песни вещие их не допеты, Пали жертвою злобы, измен В цвете лет; на меня их портреты Укоризненно смотрят со стен.
Лирический герой 70-х гг. более сосредоточен на своих чувствах, на смену демократической стихии «многоголосья» часто приходит самоанализ, а вместе с ним и лермонтовские интонации. «Лирика Некрасова 70-х гг. более чем когда-либо несет настроения сомнений, тревоги, подчас прямого пессимизма. Его все меньше можно рассматривать как поэта лишь народной крестьянской Руси. Все чаще образ мира как крестьянского жизнеустройства вытесняется образом мира как всеобщего миропорядка. Масштабы, которыми меряется жизнь, поистине становятся мировыми».
Это приводит к обновлению поэтической образности некрасовской лирики. В ней совершается отчасти аналогичная фетовской символизация художественной детали. Так, в стихотворении «Друзьям» (1876) деталь из крестьянского быта («лапти народные») приобретает многозначительность символа.
Переосмысливаются и получают новую жизнь старые темы и образы его собственной поэзии. В 70-х гг. Некрасов вновь обращается, например, к сравнению Музы с крестьянкой, но делает это иначе. В 1848 г. поэт вел Музу на Сенную площадь, показывал, не гнушаясь страшными подробностями, сцену избиения кнутом молодой крестьянки и лишь затем, обращаясь к Музе, говорил: «Гляди, Сестра твоя родная». В 70-х гг. поэт стремится сфокусировать в емкий поэтический символ то, что было открыто аналитически в предшествующей лирике:
Не русский - взглянет без любви На эту бледную, в крови, Кнутом иссеченную Музу…
Эта устремленность к итогу и синтезу получила свое завершение в лирическом цикле «Последние песни» (1877), напоминающем тургеневские «Стихотворения в прозе».
Излюбленный у Некрасова прием циклизации лирических стихов или сценок внутри одного произведения к 70-м гг. тоже существенно изменяется. В 40–50-е гг. Некрасов создал известный «панаевский цикл» интимной лирики, в котором впервые в русской поэзии рядом с образом лирического героя появился образ героини, обладающей своим собственным «голосом», меняющийся от стиха к стиху. Поэт здесь как бы отдавался непосредственному переживанию различных перипетий своего любовного романа. И образ любимой женщины раскрывался в нем в новых и новых, подчас неожиданных поворотах.
В 70-х гг. поэт еще раз возвращается к этому роману в лирическом цикле «Три элегии» (1873). Но принципы циклизации теперь оказываются противоположными. Некрасов пытается свести драматические перипетии романа к некоему общему поэтико-философскому итогу. В «Трех элегиях» уже отсутствует конкретный, живой и изменчивый облик любимой женщины, в стихи не впускается ее живое слово, а вместе с ним и та «проза», которая «в любви неизбежна». Драматизм любовных чувств здесь охвачен в его конечных, роковых пределах: любовь и смерть, бесконечность чувства и конечность жизни. Сгущение поэтической логики, почти философская строгость композиции цикла сказывается даже в заглавии: «Три элегии» - три стадии романа, сменяющие одна другую по законам философской триады. И даже поэтический язык этого произведения тяготеет к итоговым, освященным традицией поэтическим формулам: «судьба», «изгнанье», «заточенье», «ревнивые мечты», «роковые волны».
«Панаевский цикл» складывался у поэта совершенно иначе. Здесь отсутствовал какой-либо план и предварительная композиционная продуманность. Несмотря на очевидное внутреннее единство, - а может быть, и благодаря ему, - Некрасов не пытался структурно оформить этот цикл, дать ему название. Связи внутри панаевского цикла возникали непроизвольно и непреднамеренно.
Наблюдения над принципами циклизации в стихах 60-х гг. «О погоде» и в стихотворении 70-х гг. «Уныние» (1874) приводят к аналогичным выводам. В первом произведении само название предполагало погружение поэта в стихию непроизвольных наблюдений, фиксацию их природного многообразия. «Уныние», подобно циклу «О погоде», составлено из серии конкретных жизненных зарисовок. Но если в цикле «О погоде» сценки значимы еще и сами по себе, вне общего итога, который выясняется постепенно, в ходе ассоциативных сцеплений между ними, то в «Унынии» все многообразие поэтических зарисовок решительно и энергично стягивается к общему итогу, общему настроению, имя которому - «уныние».
Наряду с бесспорными поэтическими открытиями путь, по которому пошла некрасовская поэзия 70-х гг., обнаруживал и свои утраты. С одной стороны, лирика Некрасова, напрягая все свои внутренние возможности, поднималась к емким поэтическим образам, становилась краткой, энергичной и афористичной. С другой стороны, приглушалась свойственная искусству Некрасова 50–60-х гг. непосредственность в отношениях с действительностью. Многообразие жизненных связей в ней не столько отыскивалось заново, сколько подводилось под некий общий, уже открытый искусством смысл. В. В. Гиппиус заметил, например, что традиционные пушкинские и лермонтовские поэтические формулы в стихах Некрасова 70-х гг. теряют свойственную им многосмысленность и превращаются в устойчивые знаки, определяющие жизненное явление, поэтическому анализу которого Некрасов теперь не хочет отдаваться.
Заметно трансформируется в 70-е гг. и юмористическое творчество шестидесятников - поэтов, группировавшихся вокруг журнала «Искра» и занимавших одно из ведущих мест в некрасовской школе поэзии. Перемены эти аналогичны тем, которые сопровождали эволюцию некрасовской поэзии. Даже у Д. Д. Минаева (1835–1889), с изящной юмористической легкостью менявшего одну за другой поэтические маски, в 70-е гг. пробивается прямой сатирический голос автора, горький, саркастический смех. Юмористическое версификаторство теперь уже не удовлетворяет поэта. Одновременно возникает тяга к афористичной, сатирически сгущенной образности. В творчестве позднего Минаева развивается и совершенствуется искусство эпиграммы, поэтика каламбура. Не случайно бо́льшая часть его эпиграмм создана в 70-е гг. В минаевских пародиях этого времени значительно свертывается собственно пародийное начало за счет нарастания прямого морализаторства. Пародия на «Жалобы музы» Полонского завершается, например, лобовым сатирическим выпадом от автора: «И только поэт одного не поймет: О чем это думает бедный народ».
В стихах, где традиционная сатирическая маска все еще применяется, исчезают юмористическая вольность, озорство и артистизм, свойственные поэзии искровцев 60-х гг. Все чаще прорывается бичующий голос автора, его злой сатирический смех.
Меняется само качество искровского юмора. Возрождается «старомодный» для 60-х гг., аристократически приподнятый над миром «витийства грозный дар»:
Торжественный смех иногда Доходит до грохота грома, Сливаясь в густых облаках В немолчное, грозное эхо…
Одновременно в поэзии Минаева нарастает «преднадсоновская» стихия сомнений и рефлексий, появляются жалобы на жестокую действительность, убившую лучшие надежды, развеявшую светлые верования: «И если вырвет смех, то не веселый, злой, Как в осень ветра стон, под непроглядной мглой…» (II, 458). Изменяются масштабы сатирических обобщений. Исчезает типичная для юмора шестидесятников острота реакций на злобу дня. В орбиту сатирического освещения втягиваются такие универсальные категории, как «свет», «мир» (сатирическая поэма Минаева «Кому на свете жить плохо», 1871). В сатирической поэме «Демон» (1874–1878) Минаев стремится к всеевропейскому охвату событий. В поэзии искровцев все чаще звучит мотив сомнения в народных силах, в перспективах народной жизни вообще. Народная Русь предстает в аллегорическом образе спящего великана («Сон великана» Минаева).
Значительные перемены происходят и в области переводческих симпатий поэтов-искровцев. Увлечение демократической песенной культурой Беранже, под знаком которого прошли 60-е гг., сменяется теперь пристальным вниманием к поэзии Шарля Бодлера с ее бунтарским неприятием трагической неустроенности мира. Появляются первые переводы его стихов, выполненные Николаем Курочкиным (1830–1884) и Дмитрием Минаевым. Так по всем направлениям развития поэзии искровцев в 70-е гг. начинают заявлять о себе симптомы нового понимания кризиса гражданского направления в искусстве. 70-е гг. с их нарастающим драматизмом в исторических судьбах России принесли с собою более суровую и напряженную атмосферу гражданственности. Искусство поэтов-искровцев вынуждено было отстаивать чистоту и верность своей позиции путем своеобразной ее аристократизации. Свободные выходы его к действительности, возможные в эпоху 60-х гг., теперь всячески сдерживались и ограничивались.
По отношению к поэзии народников в нашем литературоведении последних лет вырабатываются особые критерии оценки, отвечающие самой природе их творчества. Ведь традиционные упреки в недостаточной талантливости поэтов-народников не только не разрешают проблемы, но как бы умышленно уводят от нее. Дело в том, что народники сознательно отталкивались от профессионального искусства. Появление народнической поэзии в русской литературе 70-х гг. было вызвано в первую очередь факторами общественной, революционной борьбы, а также явилось и следствием драматических противоречий, которые обнаружились тогда в развитии русской поэзии. Творчество революционных народников отстаивало себе право на существование, обращаясь к ценностям, вне искусства лежащим. В. Н. Фигнер (1852–1942) открыто говорила о том, что ее стихи не имеют художественных достоинств сами по себе, что «настоящее место им было бы, кажется, в воспоминаниях о Шлиссельбургской крепости».
Поэзия народников утверждала свою жизнеспособность стоящими за нею реальными биографиями русских героев-революционеров. За поэтическим «словом» здесь виделось практическое революционное дело, конкретная правда факта, этически безупречная позиция борца.
Новое отношение поэтов-народников к художественному слову сознательно формулировалось ими в предисловии к заграничному изданию сборника стихов русских политических заключенных «Из-за решетки» (1877). Это предисловие, написанное Г. А. Лопатиным, было своеобразной поэтической декларацией революционной поэзии, эстетическим ее манифестом. Основное внимание здесь уделялось воспитательной роли литературы, ее практическому революционному воздействию на читателя. Отталкиваясь от профессионализма в искусстве («писание стихов не составляет специальности человека народного дела»), автор видит основное достоинство поэтического слова в его четкой революционной ориентации: «Довольно уродовали душу русского „мученика правды ради“! Пора, наконец, ему самому сказать свое „душевное слово“! Мы думаем, что для того чтобы раскрыть перед одним человеком душу другого, едва ли есть средство лучше лирики; ибо истинная поэтическая стихотворная строка не допускает лжи: последняя сейчас же скажется в деланности и холодности стиха».
«Слово» в поэзии революционных народников лишается традиционных в искусстве «игровых» качеств, рожденных его поэтической многозначностью. Оно упорно не хочет быть «глуповатым»: оно мыслится как поступок, как прямое продолжение революционной практики, за вычетом которой теряет жизненную ценность. Поэты-народники чаще всего обращаются при этом к традициям некрасовского искусства, но делают это по-своему, публицистически заостряя и закрепляя их. Многозначный и емкий образ, к которому стремится Некрасов в поэзии 70-х гг., под пером поэта-народника превращается в прямой и однозначный поэтический лозунг. С точки зрения литературной поэзия революционных народников 70-х гг. Ф. В. Волховского (1846–1914), С. С. Синегуба (1851–1907), П. Л. Лаврова (1823–1900) и других вторична, это поэтическая публицистика, использующая художественные образы профессионального искусства в своих практических, революционных целях. Вспомним, сколь сложен и многозначен ассоциативный комплекс, возникающий в некрасовской поэзии за словами «буря», «мороз», «гроза». У поэтов-народников эта многозначность погашается, сводится к прямым революционным ассоциациям. «Буря» - это ожидаемая революция, «гроза» - разгул враждебных ей сил и т. д.
Поэтическая многосмысленность в поэзии народников превращается в прозрачную революционную аллегорию («весенний гром» - революция; «грозный судия с мечом и пламенем в руках» - революционный мститель). В поэзии революционных народников создается целая система таких устойчивых слов-символов с неподвижно закрепленным за ними поэтическим смыслом.
Совсем иначе живут те же самые поэтические слова-образы в контексте поэзии Некрасова. Вторая часть цикла «О погоде» (1865), например, открывается известной главою «Крещенские морозы». И «мороз» символизирует собою у Некрасова очень разные стихии русской жизни. За ним встают суровые судьбы народа, капризы русской истории. И одновременно этот образ вызывает более конкретные ассоциации с эпохой конца 60-х гг., разгулом правительственной реакции. Наконец, образ «мороза» в цикле «О погоде» выступает и в бытовом, конкретном качестве - морозная зима 1865 г., живые уличные происшествия:
- Государь мой! Куда вы бежите? - «В канцелярию; что за вопрос? Я не знаю вас!» - Трите же, трите Поскорей, бога ради, ваш нос!
Поэтический образ кристаллизуется у Некрасова в процессе утонченного анализа действительности в пределах данного произведения и в контексте всего предшествующего творчества.
Народники берут его в готовом виде и придают ему публицистическую однозначность, обеззвучивая в нем собственно поэтическую образность: «Мороз кует в последний раз природу» - прямая аллегория обессилевшей правительственной реакции, которая уже не в силах сдержать грядущий «весенний гром».
Поэзия революционных народников живет отраженным светом, ничуть этого не скрывая и нисколько этим не смущаясь, так как она и не претендует на новаторство. Ей важно быть популярной и массовой. Она питается комплексом популярной поэтической культуры, перепевая традиционные и ходовые поэтические формулы на свой, революционный лад, наполняя их новым, революционным содержанием. Так, романтическая формула «колени трепетно склоняет», в традиционном поэтическом контексте ассоциирующаяся с образом романтической девы, в стихотворении Лаврова «Апостол» (1876) адресована миру людей, погрязшему в буржуазности: «Где все пред денежным мешком Колени трепетно склоняет…». А в стихотворении Синегуба «Гроза» (1873) свобода является поэту «С любовной улыбкой на чудных устах», ее «черные очи пылают огнем».
Но тем самым поэзия народников, порой неразборчивая в заимствовании поэтических формул, по-своему готовила почву для нового этапа русской поэтической культуры начала XX в., синтезирующей полярные, враждовавшие друг с другом поэтические направления.
Творчество революционных народников разнообразно в жанровом отношении: лирические медитации, стихотворные повести, стилизованные под фольклор сказки, песни, былины. Однако и в выборе жанра поэты-народники руководствуются в первую очередь внелитературными, агитационно-пропагандистскими целями. Изданный в 1873 г. Д. А. Клеменцом «Сборник новых песен и стихов» весь состоял из революционных стихов, стилизованных под народные или «перепевающих» на революционный лад популярные песни. Да и наиболее долговечные произведения поэтов-народников, вошедшие в поэтическую культуру последующих поколений, питаются народными песенными истоками: таковы «Новая песня» («Отречемся от старого мира…», 1875) Лаврова, «Последнее прости» («Замучен тяжелой неволей…», 1876) Г. А. Мачтета и др.
Тематически поэзия народников весьма разнообразна. Но в центре ее идеальные образы русских борцов-подвижников, мучеников за революционную идею, причем в отличие от поэзии демократов-шестидесятников образ революционного борца здесь часто изображается в ореоле христианского страдальца. Поэты-народники как будто возрождают религиозные реминисценции, свойственные поэзии позднего декабризма и творчеству М. Ю. Лермонтова. Однако звучат религиозные мотивы у народников совсем иначе. Они лишены какого бы то ни было мистицизма. Легендарный образ евангельского героя Христа привлекает народников этической высотой, готовностью принять любые страдания за идею, сочувствием бедным и угнетенным. Поэтизация мученичества, свойственная в той или иной мере всем поэтам-народникам, являлась следствием тех реальных трудностей, с которыми столкнулись русские революционеры-практики. Она же была и попыткой преодолеть эти трудности: непреклонность и стойкость по отношению к царским властям, с одной стороны, и образец героизма, близкий по духу русскому крестьянству, - с другой. Не потому ли Александр Блок вопреки очевидным «профессиональным» несовершенствам увидел в лавровской «Новой песне» стихи хоть и «прескверные», но тем не менее «корнями вросшие в русское сердце; не вырвешь иначе, как с кровью…».
В 1872 г. в Москве выходит «Рассвет. Сборник (нигде не бывавших в печати) произведений писателей-самоучек». Душою первого творческого объединения писателей и поэтов из народа явился И. З. Суриков (1841–1880). В суриковский круг вошли поэты А. Я. Бакулин (1813–1894), С. А. Григорьев (1839–1874), С. Я. Дерунов (1830–1909), Д. Е. Жаров (1845?–1874), М. А. Козырев (1852–1912), Е. И. Назаров (1847–1900), А. Е. Разоренов (1819–1891), И. Е. Тарусин (1834–1885). В конце 70-х гг. к суриковцам примкнул известный поэт С. Д. Дрожжин (1848–1930), творчество которого стало известно широкому читателю уже в 80-е гг. Поэты-самоучки прошли суровую школу борьбы с нуждой и социальными невзгодами, прежде чем получили возможность взять в руки книгу, а затем - перо. «Певцы деревни, разлагающейся под ударами новых условий, и певцы столицы, где в ежедневной борьбе теряют силы выходцы разлагающихся деревень», поэты суриковского круга и тянулись к большой поэзии, и занимали по отношению к ней позицию «непрофессиональности». Слово «самоучка» лишалось в их сознании оттенка уничижения. В нем ощущалась скорее национальная драма многих поколений русских талантливых самородков из народной среды - Ползуновых и Кулибиных. В статье «О писателях-самоучках» М. Горький вспоминал о том, как американец «Вильям Джемс, философ и человек редкой духовной красоты, спрашивал: - Правда ли, что в России есть поэты, вышедшие непосредственно из народа, сложившиеся вне влияния школы? Это явление непонятно мне. Как может возникнуть стремление писать стихи у человека столь низкой культурной среды, живущего под давлением таких невыносимых социальных и политических условий? Я понимаю в России анархиста, даже разбойника, но - лирический поэт-крестьянин - это для меня загадка». Перед нами действительно явление глубоко национальное, имеющее многовековые исторические корни в судьбах народной России. Яркая вспышка поэзии «самоучек» в русской литературе 70-х гг. вызвана в первую очередь социальными изменениями в экономическом и духовном развитии русской деревни, ускорившими рост народного самосознания.
Однако питательная почва, пробудившая к жизни целое поколение поэтов-суриковцев, связана не только с процессами пореформенной эмансипации личности крестьянина. Предпосылки для расцвета этой поэзии создавались еще и поэтической атмосферой эпохи 70-х гг. Поэты-самоучки подчас намеренно имитировали наивную непосредственность, своеобразную «внелитературность» поэтического языка. Синтезируя в своем творчестве некрасовские и кольцовские традиции, они не чуждались и тех поэтических открытий, которые совершались в русле фетовской и майковской поэзии.
Разумеется, в эстетической неразборчивости поэтов-суриковцев сказывалась их нелегкая судьба, не приготовившая им «ни школы, ни какой-либо другой возможности систематического освоения культуры». Но в этом была не только их слабость, но и своего рода преимущество. В сознательном (или непроизвольном) неразличении враждующих друг с другом поэтических школ пробивала себе дорогу общая устремленность русской поэзии конца 70-х - начала 80-х гг. к поэтическому синтезу. Позиция непрофессиональности как бы обеспечивала суриковцам право и возможность соединения разных поэтических культур и стилей в пределах одной поэтической индивидуальности и даже одного стихотворения. Отсюда давно замеченная исследователями неопределенность их индивидуального авторского облика, которая сближает поэтов-самоучек с фольклорной традицией. Да и отношение суриковцев к книжной поэзии фольклорно по своей внутренней сути. Не слишком вникая в эстетические нюансы и психологические тонкости, характеризующие поэтическую культуру разных школ и направлений, суриковцы берут из поэтической кладовой эпохи то, что красиво с их точки зрения, то, что им нравится. У них есть при этом своя мужичья оппозиция к книжности, помогающая им легко и свободно обращаться с поэтическим наследием предшественников, и в то же время острое социальное чутье, удерживающее их в русле «некрасовского направления».
В известных стихах Сурикова «Косари» (1870) в оправу по-некрасовски разработанного бытового сюжета включается стилизованная под Кольцова народная песня. В итоге образ крестьянина-косаря, сохраняя моменты бытовой некрасовской конкретизации, приобретает обобщенно-эстетизированный колорит. В лирике Некрасова, по его собственной поэтической формуле, «что ни мужик, то приятель», что ни стихотворение, то новый народный характер, с особой психологией, индивидуальным взглядом на мир. В лирике Сурикова и его друзей в освещении народной жизни преобладает начало песенное, антианалитическое.
Правда, и в творчестве Некрасова 70-х гг., в поэме «Кому на Руси жить хорошо» в особенности, изображение индивидуальных народных характеров усиливается с помощью прямых фольклорных заимствований (обрядовая лирика в рассказе Матрены Тимофеевны, былинное начало в обрисовке Савелия и т. д.). Но у Некрасова народная индивидуальность не поглощается фольклорностью, песенностью. Индивидуализирующие конкретно-бытовые зарисовки и синтезирующие фольклорные заимствования сохраняют свою самостоятельность, сосуществуют в художественных сцеплениях. У поэтов суриковского кружка, напротив, лирика характеров полностью вытесняется и подменяется лирикой социальных состояний. Даже названия стихотворений Сурикова по-своему об этом говорят: «Смерть» (1870), «Бедность» (1872), «Доля бедняка» (1866?), «Горе» (1872), «Одиночество» (1875), «Кручинушка» (1877) и т. п. Сурикова интересует не столько конкретный и индивидуальный характер бедняка, сколько обобщенное, неконкретизированное состояние народной бедности или смерти, горя, одиночества. В центре внимания оказывается не образ нищего крестьянина, а некое универсальное, социально окрашенное состояние нищенства русской деревни:
Бедность ты, бедность, Нуждою убитая, - Радости, счастья Ты дочь позабытая!
Суриковцы оказываются прямыми последователями и продолжателями песенного кольцовского творчества. Но эпоха 70-х гг., расшатавшая устои патриархального деревенского быта, накладывает особый отпечаток на их творчество. Суриковцы иначе укореняются в фольклорности, чем Кольцов. У Кольцова фольклорность органически сливается с внутренним существом жизни и быта лирического героя, что придает ему величие и значительность, душевную цельность и мощь. У суриковцев фольклорность часто выступает как предмет эстетического любования, это стихия, приподнятая над повседневным крестьянским существованием, уже в какой-то мере чуждая прозе деревенской жизни. В поэзии народных «самоучек» 70-х гг. исчезает та непосредственность бытия фольклора в поэтическом сознании, которая в 30–40-е гг. была достоянием народной жизни и которую выразил в своих гениальных песнях Кольцов.
Суриковцы уже не могут удовлетвориться теми эстетическими и духовными ценностями, которые несет в себе народная песня, они тянутся к «литературной» поэзии, они более открыты ее влияниям, духовно от них не защищены. При этом поэты-самоучки активно используют в своем творчестве готовые поэтические образы из сферы демократической поэзии, причудливо совмещая их иногда с формулами фетовской и майковской лирики. В стихотворении Сурикова «И вот опять пришла весна…» (1871) в начальных строках ощутимо влияние наивно-бесхитростных майковских пейзажей. Но рядом с этим в стихах появляется типичный уже для кольцовско-некрасовской поэзии образ «доли», звучащий здесь явным стилистическим диссонансом:
И вот опять пришла весна, И снова зеленеет поле; Давно уж верба расцвела - Что ж ты не расцветаешь, доля?
Наряду с подобным симбиозом уже не различающихся между собою поэтических культур в поэзии Сурикова часто встречаются открыто подражательные стихи. За поэтической миниатюрой «Всю ночь кругом метель шумела…» (1871) чувствуется ученическое следование Сурикова по стопам фетовской лирики природных состояний. А в стихотворении «Встало утро, сыплет на цветы росою…» (1872) наряду с никитинскими интонациями ощутимы попытки автора овладеть колоритом и живописной пластикой майковских картин природы:
…над водой лишь гнутся Водяной кувшинки маковки, белея; А вверху над ними, поднимаясь, вьются Мотыльки, на солнце ярко голубея.
Следует, однако, сказать, что отмеченные нами факты смешения разных поэтических направлений в пределах одного стихотворения у «непрофессиональных» поэтов 70-х гг. встречаются не столь часто. У тех же суриковцев стихи «гражданского» и «чисто поэтического» плана, как правило, друг от друга еще отграничены. Но примечательна и глубоко симптоматична сама возможность их сосуществования в творчестве одного поэта.
Конец 70-х и начало 80-х гг. будут отмечены появлением на русском поэтическом горизонте популярной поэзии С. Я. Надсона, одно из первых стихотворений которого - «На заре» (1878) - открывается мотивом драматического противостояния умиротворенной стихии природы и больного гражданской скорбью человеческого сердца, не знающего покоя, причем в финале этого стихотворения образ зари из «природного» фетовского контекста переключается в контекст гражданский, общественный: «И зарею ясной запылает время». А в поэтической декларации Надсона «Идеал» (1878) манифестация возвышенной гражданственности вбирает в себя все признаки поэтического аристократизма, характерные для «манифестов» школы «чистого искусства»:
Но лишь один стоит от века, Вне власти суетной толпы, - Кумир великий человека В лучах духовной красоты. И тот, кто мыслию летучей Сумел подняться над толпой, Любви оценит свет могучий И сердца идеал святой.
Поэзия Надсона завоевывала свою популярность не только выразившимися в ней настроениями гражданской тоски и уныния, но и той устремленностью к синтезу разных поэтических школ и направлений, которой будут отмечены в истории русской поэзии 80–90-е годы.
Развитие и переосмысление тематики и художественно-стилевых поисков «оттепельной» лирики в поэзии советского и постсоветского периода. Тематически-стилевые общности поэзии 70–90х гг. и проницаемость их границ; многообразие творческих индивидуальностей в лирике постоттепельного периода:
Поэты фронтового поколения и поэты-«ученики Серебряного века» (Б. Слуцкий, А. Тарковский, Д. Самойлов, С. Липкин, М. Петровых, Л. Мартынов…): дальнейшая индивидуализация творческих манер письма, субъективность и масштабность лирических обобщений.
Поэты «громкой лирики» в постоттепельные годы (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский…): ослабление публицистического звучания поэтической речи, поиск нового предмета изображения, нового статуса поэзии.
«Тихая лирика» (Н. Рубцов, А. Жигулин…): лирическая медитация о традициях и современном облике русской деревни как способ постижения лирическим героем законов мирозданья.
Бардовская поэзия: значимость индивидуальной манеры исполнения для определения феномена бардовской (авторской) песни; исповедальный характер лирики; прозрачность поэтического языка; лирическое, социально-критическое и романтическое начала как основные эмоционально-смысловые моменты бардовской лирики.
Рок-поэзия: синтез музыкальных и литературных традиций в феномене рок-культуры, категория протеста как основополагающая для рок-поэзии; ситуация смешения жанров рок-песни и бардовской песни в современном культурном пространстве.
Духовная лирика (З. Миркина, С. Аверинцев, Ю. Кублановский): поэзия как бесконечное постижение феномена божественного бытия.
Неоакмеизм 20 в лирике 70–90-х гг. (Б. Ахмадулина, А. Кушнер, О. Чухонцев, Е. Рейн, Л. Лосев, И. Лиснянская, И. Бродский…). Феномен всеобщей личностной связи 21 (человека и истории, человека и культуры, человека и сфер бытия) как основной предмет осмысления поэзии неоакмеизма. Сходное в эстетических принципах лириков-неоакмеистов. Своеобразие индивидуальных авторских интонаций. Востребованность поэтики неоакмеизма в эпоху 70–90х гг., тяготение к ней лириков разных поколений, тематических и стилевых общностей.
Авангард в лирике советского и перестроечного периода; востребованность и многообразие вариантов поэтического авангарда в лирике 70–90х гг.; литературные общности и творческие индивидуальности внутри литературных общностей в поэтическом авангарде: концептуализм (Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров), необарокко (И. Жданов, Е. Шварц, А. Парщиков, О. Седакова), неофутуризм (В. Соснора, Г. Айги, В. Казаков), ироническая поэзия (И. Иртеньев, Вл. Вишневский) и др.
Тема 3.3. Драматургия 70–90х гг.
Театр в общественной и культурной жизни постоттепельной поры; двойственность общественного статуса театра 70–90х гг., неоднородность культурных процессов, происходящих в нем.
Общий обзор драматургии 60-х гг.: ведущие темы, жанры:
70–90е гг. как «время инсценировок»: популярность театральных постановок прозаических произведений «постоттепельного» периода (прозы Ю. Трифонова, Ч. Айтматова, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Быкова. В. Распутина, Е. Гинзбург, А. Солженицына, В. Шаламова и др.).
Обновление жанра производственной драмы в театре 70-90х гг.: социальная и нравственно-психологическая проблематика пьес А. Гельмана и др.
Политико-психологическая драма 70–90х гг.: попытка объяснения характера, мотивов действий человека, обладающего властью (драмы М. Шатрова, В. Коркия, И. Друцэ); сценическая версия конфликта личности и тоталитарного общества (пьеса А. Казанцева «Великий Будда, помоги им!»).
Социально-психологическая / философско-психологическая драма 70–90х гг. как размышление о природе и аспектах человеческой личности, вариантах жизненных позиций; многозначность художественной оценки героя психологической драмы, феномен авторского вопрошания 22 как отличительны признак эстетики психологической драмы 70–90х гг.
Востребованность психологической драмы в «постоттепельную» эпоху; варианты и специфика художественных методов социально-психологической / философско-психологической драмы 70–90х гг.:
Классическая психологическая (бытовая) драма с элементами интеллектуализированного изложения материала (А. Вампилов, А. Володин, Л. Зорин, А. Казанцев, Л. Разумовская, В. Арро и др.);
Сценическая притча (А. Володин, Э. Радзинский, Г. Горин, Ю. Эдлис и др.);
Натуралистическая драма (А. Галин, Н. Коляда, Л. Петрушевская);
Пьесы с элементами авангардной (абсурдистской) эстетики (Вен. Ерофеев, Н. Садур, А. Шипенко);
Пьесы с элементами авангардной (импрессионистской) эстетики (М. Угаров, Е. Гремина, О. Мухина, О. Михайлова).