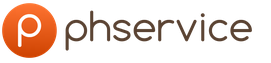«Плетение словес» в Житии св. Стефана Пермского. Плетение словес
Кимаева А.С.
«Плетение словес» в «Житии Сергия Радонежского», написанном Епифанием Премудрым
Экономическое и политическое укрепление Московского государства, объединение земель вокруг Москвы, рост национального самосознания, укрепление и подъем самодержавной власти и монархии, оформление титула великого князя – весь этот позитивный настрой светской власти совпал с устремлениями высшего духовенства сделать Русь великой православной страной, преемницей по отношению к Византии, новым центром христианской религии – Новым Иерусалимом и Третьим Римом . « Дъва Рима падоша, третий Римъ стоитъ, четвертому не бывать ».
В это время Византия, Сербия и Болгария теряют свою независимость и многие выдающиеся деятели, такие как афонский монах Пахомий Лагофет, митрополит Киприан, иконописец Феофан Грек переезжают в Москву. С собой они привозят южнославянские рукописи, книги «тырновского» извода, ставшие образцом для русской церковной литературы. «Начиная с конца XIV в. в Москве осуществляется редактирование церковных книг с целью привести их в первоначальный, наиболее соответствующий греческим оригиналам вид» . Политические, идеологические и культурные процессы, которые происходили в русском обществе в конце XIV – начале XV в. привели к довольно значимым изменениям в письменном литературном языке, которые в науке большинство исследователей, вслед за А. И. Соболевским, называют «вторым южнославянским влиянием».
Второе южнославянское влияние отвечало интересам светской и церковной власти. Для светской власти был интересен торжественный, пышный, риторический язык, который должен был отличаться от языка повседневности. Новым языком следовало описывать жизнь русских князей, их подвиги, деяния великого князя или царя. Русь усваивает новый витийственный стиль «плетение словес», или «извитие словес». Он возник в агиографии, как продолжение традиций античных риторик и развивался на славянской почве и в произведениях сербских агиографов. «По содержанию книги, переписывавшиеся в новых монастырях, были аскетического направления, связанного с духовным и идейным движением, сформировавшимся в Византии в XIII – XIV веках и известным под названием исихазма» Исихатское учение стало философской основой стиля «плетение словес». Оно основывалось на внимательном отношении к слову. «Исихазм (от греч. hesychia – покой, отрешенность) представляет собой этико-аскетическое учение о пути к единению человека с богом, о восхождении человеческого духа к божеству, «божественности глагола», необходимости пристального внимания к звучанию и семантике слова, служащего для называния сущности предмета, но часто не способного выразить «душу предмета», передать главное» В новом жанре разрушается житийный канон. Его вытесняет речевой этикет, требовавший соблюдения общепринятой формы изложения.
Стиль «плетение словес» характерен для произведений житийной, эпистолярной и переводной литературы. Вначале новый слог имел распространение в церковной литературе: «Четьи-Минеи», «О житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» (1389 г.) и т.п. Затем он распространился и на материалы общерусской летописи, публицистических произведений, исторических повестей, оригинальных и переводных. «Что же касается содержания, который обслуживал стиль «плетение словес», то здесь всякие сомнения отпадают, потому что он выражал русский менталитет»,- считают Войлова К. А. и Леденёва В. В. .
Великим мастером нового стиля выражения и автором термина «плетение словес» был Епифаний Премудрый – автор «Жития Стефана Пермского» и «Жития Сергия Радонежского». Епифаний так охарактеризовал свою манеру выражения: « Аще бо и многажды въсхотел бых изъоставити беседу, но обаче любы его влечеть мя на похваление и на плетение словес ».
В древнерусской литературе XIV-XV веков проявляется большой интерес к душевным переживаниям человека, к внутреннему миру его чувств. Литературные памятники, написанные Епифанием Премудрым, играли большую роль в развитие литературного языка, поэтому они столь часто подвергаются пристальному исследованию с лингвистической точки зрения.
«Житие Сергия Радонежского» является наиболее известным памятником русской агиографии. Его полное название - «Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия-чудотворца и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. Сообщил архимандрит Леонид». Это произведение исследуют и текстологи, и литературоведы, и историки. На данный момент к данному тексту повышенный интерес, так как в прошлом году праздновалось семисотлетие со дня рождения великого русского святого преподобного Сергия Радонежского.
В «ЖСР» доминирующую позицию занимает повествовательное начало. Анализируя язык «ЖСР», мы нашли в нем много ярких особенностей стиля «плетение словес».
В.В. Колесов отмечал индивидуальный стилистический прием в Житии Сергия Радонежского - «увеличение объема синтагм» до «триады». То есть в «ЖСР» ярко выражены тройные повторы. Они встречаются в описании всей жизни святого. Открыто выражен троичный мотив в троекратном крике ребенка во чреве матери. Этим автор показывает, что Сергий с детства был избран Богом.
Мы видим, что Сергий посвящается на служение трижды. Во-первых – явление Сергию чудного старца, который вдохнул в него «умение грамоте». Во-вторых – пострижение, и, в-третьих – игуменство. Все эти пути преподобный проходит на протяжении всей своей жизни. Последовательность путей не нарушается, так как это путь становления личности святого.
Также троичен этап явления небесных сил святому, которые предрекли его судьбу и смерть: в начале это ангел, потом – Богородица, и в конце – огонь в молитве Сергия.
Не зря Епифаний Премудрый вводит в свое произведение трех братьев. Старший, Стефан, был мирского склада, с трезвым рассудком. Младший – кроткий мирянин, несущий тяготы земные, Петр. А средний, Варфоломей-Сергий, кроток как младший, и монах, как старший. Для сказки всегда выбирается младший брат, для исторической, восхваляющей доблести повести – старший. Героем жития же становится средний брат. Таким образом, мы видим, что героем становится «средний человек», который не уклоняется от нормы. Без сомнения можно говорить, что тройные повторы в тексте нужно связывать с выражением догмата о Святой Троице.
Три чуда, которые имеют первостепенный смысл к монашеской жизни Сергия, - младенец отказывается вкушать молоко матери, если она до этого ела мясо; отказ младенца от вкушения молока в постные дни, по средам и пятницам; отказ от молока кормилиц. Число три характеризует смысловую и сюжетно-композиционную структуру жития. Епифаний Премудрый стремится прославить своего героя как учителя Троицы.
Еще одной особенностью стиля «плетения словес» является цитация церковной литературы. В анализируемом памятнике цитация присутствует в большом количестве. « Никто же да не похвалится въ человецЪх; никто же чистъ пред богом, аще и единъ день живота его будет; никто же есть без грЪха, токмо единъ богъ без грехъ » - цитирует Сергий Святое Писание. Тем самым он объясняет своей матери, что нет людей без грехов, что все рождаются грешными.
Епифаний Премудрый прибегает к цитации церковной литературы в том случае, когда герою нужно что-то разъяснить, подвергнуть сравнению. « Дом же и яже суть въ дому потребныа вещи н въ что же въмЪнивъ си, поминаше же въ сердци Писание, глаголющее, яко «многа въздыханиа и уныниа мира сего плъно есть »». Сергий понимает, что не сможет жить обыкновенной мирской жизнью, что ему уготован другой путь. Путь к Богу. « Не бойся, малое мое стадо! О нем же изволилъ есть отець мой дати вамъ царство небесное », - процитировал Сергий Евангелие. После этих слов монахи, которые пришли в монастырь к Сергию Радонежскому, воспряли духом.
В тексте «ЖСР» можно найти много лирических отступлений автора. Это тоже было свойственно стилю «извитие словес». « И что подобаетъ инаа проча глаголати и длъготою слова послушателем слухи лЪнивы творити? Сытость бо и длЪгота слова ратникъ есть слуху, яко же и преумноженная пища телесем » - восклицает Епифаний Премудрый.
Автору свойственно уходить от темы повествования. Он начинает рассказывать о других святых, сравнивая их с Сергием. А потом сам задается вопросом, для чего он это поместил в текст. « Увы, увы, тогда граду Ростову, паче же и князем ихь, яко отъяся от них власть, и княжение, и имЪние, и честь, и слава, и вся прочая потягну к МосквЪ », - говорит автор. В этом лирическом отступлении видно, как Епифаний Премудрый сожалеет о городе Ростове.
В «ЖСР» много сложных предложений и осложненных конструкций. Это тоже подтверждает то, что памятник написан в стиле «плетения словес». « Се бо братиа твоя Стефанъ и Петръ оженистася и пекутся, како угодити женама; ты же не оженивыйся печешися, како угодити богови – паче же благую чясть избрал есть, и яже не отимется от тебе ». Это сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью.
« И пришед въ град вселился в монастырь счятого Богоявлениа, и обрЪте себЪ келию, и живяше в ней, зЪло подвизаяся на добродЪтель: бяше бо и тот любяше жити трудолюбно, живый в келии своей житие жестоко, постом и молитвою, и от всего въздръжаяся, и пива не пиаше, и ризы не щапливы ношааше ». Это тоже сложное предложение. Автор вводит их в свое произведение для большей красоты речи, торжественности. Сложные предложения несут в себе большую эмоциональную нагрузку, нежели простые.
В «ЖСР» существуют повторы, которые организуют сложное синтаксическое пространство с рядами однородных и второстепенных членов предложения. « Да не забвено будет житие святого тихое и кроткое и не злобивое, да не забвено будет житие его честное и непорочное и безмятежное, да не забвено будет житие его добродетелное и чюдное и преизящное, да не забвены будут многыя его добродетели и великаа исправлениа, да не забвены будуть благыа обычаа и добронравныя образы, да не будут бес памяти сладкаа его словеса и любезныа глаголы, да не останет бес памяти таковое удивление, иже на немъ удиви богь ...».
Еще одним средством стиля «плетения словес» является использование многочисленных сравнений. В «ЖСР» мы нашли их в большом количестве.
« Отрок же сътвори поклонение старцу и акы земля плодовитая и доброплоднаа, сЪмена приемши въ сердци си, стояше, радуяся душею и сердцемь, яко сподобися такова свята старца обрЪсти », - пишет агиограф. Благодаря сравнению, мы видим, как радуется душа Сергия тому, что чудный старец даровал ему учение грамоте.
« И единою просто рещи и вся узы мирьскаго житиа растрЪзав, - акы иЪкы орелъ, легкыма крилома опрятався, акы къ воздуху на высоту възлетЪвъ, - тако и сЪй преподобный оставль миръ и яже суть мирЪ, отбЪже всЪх прочих житейскых вещей, оставль род свой и вся ближникы и ужикы, дом же и отечество, по древнему патриарху Аврааму ». Использованное здесь сравнение зримо рисует, как себя ощущал герой во время пострига, как ему не важна была мирская, суетная жизнь.
В «Житие Сергия Радонежского» присутствуют различные синонимические ряды. Эта характеристика является показателем стиля «плетения словес». « К сим же и всЪм и бЪсовьскыя рати, видимыя и невидимыя брани, борбы, сплетениа, дЪмоньскаа страхованиа, диавольскаа мечтаниа, пустынная страшилища, неначаемых бЪд ожидание, звЪриная натечениа и тЪх сверЪпаа устремлениа ». Так Епифаний Премудрый повествует нам о тех напастях, которые ожидали преподобного Сергия в монашеской стезе.
« Жестоко же постное житие живяше; бяху же добродЪтели его сице: алкание, жадание, бдЪние, сухоядение, на земли легание, чистота телесная и душевнаа, устнама млъчание, плотскаго хотЪниа, извЪстное умръвщвение, труди телеснии, смирние нелицемЪрное, молитва непрестающиа, разсуждение доброразсудное, любовь совръшенаа, худость ризъная, память смертнаа, кротость с тихостию, страх божий непрестанный », - рассказывает агиограф о добродетелях Сергия. Благодаря синонимам мы можем посмотреть с разных сторон на святого, можем понять, что для него являлось жизненными установками.
Еще одной особенностью стиля «плетения словес» является употребление сложных слов, уже существовавших в языке или создание неологизмов, напоминающих греческие сложные слова. В «ЖСР» мы выявили группу двух-трехкорневых слов, которые здесь являются стилистическим средством выражения пафоса, торжественности, великолепия русского мира (богобоязненным монахам; жизнь добродетельную вел; основать монастырь общежительный ; хорошо устроил благоразумный отец; настолько страннолюбие увеличивалось; во имя святой и живоначальной троицы и др. ).
Ярко представлены в тексте «ЖСР» метафоры. Это тоже говорит, что памятник относится к стилю «плетения словес». Приведем пример одной из них. Свое обучение грамоте Сергий получил не от земных учителей, а непосредственно от Бога. Чудный старец, встретившийся Сергию, дал ему съесть «мал кус» пшеничного хлеба. С этим хлебным кусочком вошло в отрока знание: «… и бысть сладость в усте его, акы мед сладяй, и рече: не се ли есть реченное: коль сладка грътани моему словеса твоя ».
Благодаря «плетению словес» язык становится таким же оригинальным и изысканным, как книжные орнаменты. В нем интересным образом сочетаются созвучные слова и синонимы, сравнения и эпитеты.
Итак, время конца XIV - начала XV в. явилось важной страницей в истории русского литературного языка. Развитие книжных традиций в языке, архаизация книжно-славянского типа литературного языка, строгое разделение единиц литературно-письменного языка великорусской народности приводит к тому, что книжно-славянский язык отдаляется от живой русской речи.
Литература:
Войлова, К. А. Старослоавянский язык: Пособие для вузов. М.: Дрофа. - 2003. – 369 с.
Горшков А. И. Старославянский язык / А.И.Горшков. - М, 1974. – 324 с.
Камчатнов, А. М.История русского литературного языка: XI – первая половина XIX века: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений / Александр Михайлович Камчатнов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 688с., илл.
Ковалевская, Е. Г. История русского литературного языка: Учеб. для студентов пед. университетов и институтов по спец. «Рус. яз. и лит.» - 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1992. – 303 с.: илл.
Колесов, В. В. Древнерусский литературный язык. - Л.: Издательство Ленингр. ун-та, 1989. – 296 с.
Стефан, прозванный Храп (1330-е или 1340-е гг. — 1396), был уроженцем Устюга Великого. Он решился отправиться с проповедью православной веры в леса Пермского края, населенные пермским народом (коми-зырянами). Зыряне в ту пору еще не ведали христианской веры, поклоняясь своим языческим богам. Пермский край, хотя и был знаком русским торговцам, представлялся большинству русских людей затерянной землей, неведомой страною. Проповедь Стефана была смелым и опасным деянием. Чтобы даровать новокрещеному народу слово Божие, Стефан создал азбуку для пермского языка, до тех пор бесписьменного, и перевел на этот язык богослужебные книги и, очевидно, извлечения из Библии, читаемые на церковных службах. Богослужение на местном языке удерживалось в Пермском крае, по-видимому, на протяжении почти двух столетий, и только в течение XVI века местный язык был постепенно вытеснен церковнославянским языком, на котором происходило богослужение в остальных епархиях Русской церкви (в XVI в. Пермская епархия была объединена с Вологодской).
Зимой 1383-1384 гг. Стефан был посвящен в сан епископа новосозданной Пермской епархии.
Общерусское почитание Стефана как святого было установлено только в XVII в., но местночтимым святым Пермской епархии он был с 1473 г. (О Стефане Пермском, о созданной им азбуке и о посвященных ему преданиях, записанных в Пермском крае, см.: Прохоров Г.М. Равноапостольный Стефан Пермский и его агиограф Епифаний Премудрый // Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. Редактор издания Г.М. Прохоров. СПб., 1995. С. 3-47. Здесь же указана основная литература о Стефане Пермском и о его Житии.)
Епифаний Премудрый (ум. до 1422 г.), в конце XIV - первых десятилетиях XV в. подвизавшийся в Троице-Сергиевом монастыре недалеко от Москвы, основанном святым Сергием Радонежским, в молодости был монахом ростовского монастыря Григория Богослова, или «Братского затвора». Здесь он познакомился со Стефаном, который избрал эту обитель из-за находившейся там богатейшей библиотеки, включавшей много греческих книг. «Братский затвор» был, по существу, не только монастырем, но и духовным учебным заведением. (О Епифании и о других принадлежащих или приписываемых ему исследователями произведениях см.: Дробленкова Н.Ф., Прохоров Г.М. Епифаний Премудрый // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Вторая половина XIV - XVI века. Ч. 1. Л., 1988. С. 211-220/)
Несмотря на личное знакомство Епифания Премудрого со Стефаном, Житие относительно бедно сведениями о святом, описания событий его жизни немногочисленны.
В качестве образца и модели для Жития Стефана Епифаний избрал несколько греческих и славянских агиографических сочинений. Среди них - переводная Повесть о святом Авраамии Затворнике, написанная Ефремом Сирином. К ней восходят описания испытаний и опасностей, которые претерпел Стефан, поселившись среди язычников-зырян (Соболев Н.И. К вопросу о литературных источниках Жития Стефана Пермского // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. СПб., 2001. Т. 53. С. 537-543). Но основным образцом для Епифания должны были быть жития святых миссионеров Константина (в монашестве Кирилла) и Мефодия - создателей славянской азбуки. Ведь Стефан, как и они, совершил миссионерский подвиг, создав новую азбуку и обратив в христианскую веру языческий народ. Служение миссионера - это подражание деяниям апостолов, по смерти Христа проповедовавших новую веру народам. И Епифаний уподобляет Стефана сначала апостолам, а затем славянским просветителям. Противопоставление Стефана, который за малое время один создал пермскую азбуку, греческим мудрецам, всемером составившим греческий алфавит за многие годы, восходит к болгарскому Сказанию о письменах Черноризца Храбра (Х в.). В Сказании грекам противопоставлялся создатель славянской азбуки Константин-Кирилл Философ.
Тема обращения языческого народа в христианскую веру восходит в Житии к блестящему образцу древнерусского церковного красноречия XI века, к Слову о Законе и Благодати митрополита Илариона. Из текста Илариона Епифаний заимствует сравнение святого-миссионера с апостолами, облеченное в торжественный ряд синтаксических параллелизмов (в Слове о Законе и Благодати с учениками Христа сравнивался креститель Русской земли святой Владимир): «Да како тя възможем по достоянию въсхвалити, или како тя ублажим, яко стврил еси дело равно апостоломъ? Хвалит Римскаа земля обои апостолу, Петра и Павла; чтит же и блажит Асийскаа земля Иоана Богослова, а Египетскаа Марка еуангелиста, Антиохийскаа Луку еуангелиста, а Греческаа Андрея апостола, Рускаа земля великого Володимера, крестившаго ю (ее. - А. Р. ). Москва же славит и чтит Петра митрополита яко новаго чюдотворца. Ростовскаа же земля Леонтиа, епископа своего. Тебе же, о епископе Стефане, Перьская земля хвалит и чтит яко апостола, яко учителя, яко вожа, яко наставника, яко наказателя, яко проповедника, яко тобою тмы избыхом, яко тобою светъ познахом. Тем чтем тя яко делателя винограду Христову, яко терние вътерзал еси - идолослужение от земля Пермьскиа; яко плугом, проповедью взорал еси; яко семенем, учениемъ словес книжныхъ насеялъ еси въ браздахъ сердечныхъ, отнидуже възрастают класы добродетели, ихже яко серпом веры сынове пермьстии жнут радостныя рукояти, вяжюще снопы душеполезныа и яко сушилом въздръжаниа сушаще, и яко цепы тръпениа млатяще, и яко в житницах душевных съблюдающе пшеницю, ти тако ядят пищю неоскудную, “ядят, - бо рече, - нищии, насытяться, и въхвалят Господа взискающии Его; жива будут сердца ихъ в век века» (Святитель Стефан Пермский. С. 218, 220. Далее Житие цитируется по этому изданию; страницы указываются в скобках в тексте.)
Епифаний заимствует из Слова о Законе и Благодати саму структуру восхваления миссионера. Торжественная похвала Илариона князю Владимиру также выражена посредством сравнения с апостолами, о которых говорилось в ряде высказываний, построенных на приеме синтаксического параллелизма: «Хвалить же похвалныими гласы Римьская страна Петра и Паула, има же вероваша въ Исуса Христа, Сына Божиа; Асиа и Ефесъ, и Патмъ Иоанна Богословьца, Индиа Фому, Египетъ Марка. Вся страны и грады, и людие чьтуть и славять коегождо ихъ учителя, иже научиша и православней вере. Похвалимъ же и мы, по силе нашеи, малыими похвалами великаа и дивнаа сътворьшааго нашего учителя и наставника, великааго кагана (правителя, царя. - А. Р. ) нашея земля Володимера <…>» (Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга третья. М., 1994. Приложение. С. 591.)
Обращение Епифания к тексту Слова о Законе и Благодати имеет глубокий историософский смысл. Иларион прославлял князя Владимира, крестившего языческую Русскую землю, уподобляя его апостолам; Епифаний возносит похвалу Стефану как продолжателю миссионерских деяний Владимира. Но теперь русский миссионер, выходец из давно уже христианской страны, обращает к Богу чужой языческий народ. Православная вера наполнила Русскую землю и изливается за ее пределы. Епифаний выстраивает ряд преемственности святых поборников христианской веры - миссионеров и лиц епископского сана: Владимир Креститель - Леонтий, епископ Ростовский, поровшийся с язычеством в своей епархии, - митрополит Петр, перенесший престол Русской церкви в Москву, - Стефан Пермский, обративший в христианскую веру Пермь. Таким образом, Стефан превозносится Епифанием и как миссионер, наподобие Владимира и Леонтия, и как епископ, подобно Леонтию и Петру, который миссионером не был. Составитель Жития указывает на распространение православной веры в пространстве, о ее движении на Восток: от Киева к Ростову и Москве, а затем в Пермскую землю.
Развернутая в Житии метафора возделывания земли как крещения Пермского края ведет читателя, в частности, тоже к Слову о Законе и Благодати. Основной мотив проповеди Илариона - равное достоинство новокрещеной Русской страны и земель и народов, давно принявших христианство (подразумевается прежде всего Византия). Для объяснения этого мотива Иларион обращается к евангельской притче о работниках одиннадцатого часа (Евангелие от Матфея, гл. 20). Хозяин (обозначающий в притче Господа) призвал работников на возделывание своего виноградника, при этом призванные в одиннадцатый час, незадолго до расплаты, получили ту же мзду, что и пришедшие возделывать виноградник ранее.
Епифаний, повествуя о начале проповеди Стефана в Пермской земле, также цитирует притчу о работниках одиннадцатого часа (см. с. 70-71). По распространенным на Руси представлениям, конец света Страшный Суд ожидались около 7000 г. «от сотворения мира», т.е. около 1492 г. н. э. Когда Епифаний писал Житие Стефана, «двенадцатый час» представлялся еще более близким, чем в период крещения Руси, и не случайно книжник называет время Стефана и свое собственное «последними временами». «<…> [С]лышах от етера дидаскала (учителя. - А. Р. ) слово глаголемое, но не вем, аще истинствуеть, или ни, еже рече: “Егда весь миръ приобрящемъ, тогда бо гробъ вселимся”. Сиречь, весь миръ възверуеть и по ряду вси языци крестятся; в последняя времена вся земля и вся страны и вси языци веровати начнут.
Яко и ныне Пермьская земля коль долго время осталася, по многа лета стояла, некрещена, егла же на последнее время крещена бысть милостию Божиею и спостраданиемъ и подвизаниемъ добляго епископа Стефана <…>» (с. 178).
В Житии панегирик, молитва и поучение абсолютно доминируют над повествованием, над описанием событий. «Епифаний Премудрый - не агиограф в полном смысле слова, то есть он не только агиограф в традиционном понимании этого термина. Как его главное сочинение - «Житие Стефана Пермского», так и другой его труд, посвященный Сергию Радонежскому, который позже был переписан и дополнен Пахомием Логофетом, сочетают в себе черты агиографического и гомилетического жанров» (Пиккио Р. Древнерусская литература (1959, 1968). Пер. с итал. М., 2002. С. 144). Рождение святого, пострижение, уход в Пермскую землю, две попытки зырян-язычников предать Стефана смерти (очевидно, это обобщения многих реальных случаев), прение о вере с зырянским волхвом Памом и поражение Пама, воздвижение Стефаном храмов и разрушение кумирен, благочестивая кончина - таков весь событийный ряд Жития. Состязание Стефана с Памом о вере восходит к состязанию апостолов Петра и Павла с волхвом Симоном. Об отвержении Симона, желавшего приобрести за деньги дар благодати Божией, святым Петром повествуется в Новом Завете, в Деяниях святых апостолов (гл. 8, ст. 20-23). Подробное описание позднейшего одоления Симона-мага апостолами содержится в переводных апокрифических Деяниях и мучении святых и славных и всехвальных апостолов Петра и Павла (Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2003. Т. 12. XVI век. С. 300-310.) В тексте Жития Стефана есть прямое сравнение его победы над Памом с отвержением Симона-мага апостолом Петром (с. 156). Однако похожи лишь сами ситуации и венчающая их победа святых христиан, а не конкретные события.
Другой прообраз прения с Памом - очевидно, прения о вере святого Константина (Кирилла) Философа с сарацинами и с хазарами, подробно изложенные в Пространном Житии святого просветителя славян. Но и здесь сходны ситуации, а не сами события.
Памятник открывается пространным вступлением, в котором агиограф пишет о своих неразумии и неучености и просит у Бога дара благодати для написания Жития. Такое вступление и эта «формула скромности» традиционны для житий, но в произведении Епифания вступление необычайно разрослось, оно в несколько раз превосходит средний объем агиографических введений). В Житии приводится три молитвы и два поучения Стефана, сопровождающих почти все упоминаемые события его жизни. (Для сравнения: в Житии Сергия Радонежского нет пространных молитв и поучений, а в первом русском монашеском житии - Житии Феодосия Печерского - содержится лишь одна краткая молитва святого и столь же краткое предсмертное поучение.) Завершается Житие тремя необычайно пространными плачами (они занимают около четверти объема всего текста). Это «Плач пермских людей», «Плач Пермской церкви» (церковь в плаче персонифицирована), «Плач и похвала инока списающа» (самого Епифания). Такое завершение совершенно необычно для агиографии: как правило, жития заканчиваются описанием посмертных чудес, удостоверяющих святость тех, о ком написано. По мнению Й. Бёртнеса, концовка этого жития «разительно отличается от соединения похвалы и описания посмертных чудес, которое обыкновенно завершает житие святого <…>» и эта особенность Жития Стефана Пермского может объясняться тем, что Епифаний составил это житие еще до канонизации Стефана и тем, что агиограф мог ориентироваться на княжеские жития, имеющие сходное завершение (Børtnes J. Tеe Function of Word-Weaving in the Structure of Epipеanius´ Life of Saint Stepеan, Bisеop of Perm´ // Medieval Russian Culture. Berkeley; Los Angeles, 1984. P. 326).
Тройной плач, завершающий Житие, - очевидно, это выражение христианского догмата о Святой Троице в самой форме текста.
К каждому эпизоду из жизни Стефана Епифаний подбирает десятки речений из Священного Писания, особенно из Псалтири. Жизнь святого предстает воплощением, осуществлением записанного в Библии.
Текст Жития построен вокруг нескольких ключевых понятий, варьируемых и меняющих свои значения. Одно из таких понятий - огонь.
Язычники-зыряне угрожают сжечь христианского проповедника: «И огню принесену бывшю, и соломе въкруг около его обнесене бывши, въсхотеша хотеньем створити запаленье рабу Божию и сим умыслиша огнем немилостивно въ смерть вогнати его» (с. 86). Это огонь в его предметном значении. Чуть далее лексема «огонь» употреблена в составе цитаты из Псалтири, вспоминаемой Стефаном перед лицом, как кажется, неумолимой смерти: «Вси языци, обьшедше, обидоша мя, яко пчелы сотъ, и разгорешася, яко огнь в терньи, именем Господним противяхся им» (с. 86). Епифаний вольно цитирует 117-ый псалом, стихи 10-12 (в тексте псалма говорится не о разгорающемся, а об угасающем среди терния огне). Здесь огонь и горение сердец - метафоры, и означают они ярость, злобу.
Позднее, когда Стефан предложит волхву Паму вместе войти в огонь и нырнуть в речную прорубь и вынырнуть в прорубь ниже по течению, огонь уже выступит в функции «оружия» святого, а не пермяков-язычников. Слово «огонь» и его синоним, «пламя», в речи Стефана, обращенной к Паму, выделены благодаря повторам тавтологического характера: «Придиве и вожжеве огнь и внидеве вонь, яко и сквозе огнь пламень пройдева, посреди пламени горяща» (с. 145). Возможно, огонь, как и речная вода, ассоциируются с огнем и водой, о которых как об орудиях крещения говорит Иоанн Предтеча, упоминая, что он крестит водою, но что идущий за ним (Христос) будет крестить огнем (Евангелие от Матфея, гл. 3, ст. 12).
Огонь, бывший прежде орудием злобы, которым грозили Стефану, превращается в орудие его торжества. Волхв в противоположность святому, убоялся палящего пламени: «Не мощно ми ити, не дерзаю прикоснутися огни, щажуся и блюду множеству пламени горящи, и яко сено сый сухое, не смею воврещися, да не “яко воск тает от лица огня” [Пс. 67: 3], растаю, да не ополею, яко воскъ и трава сухая, и внезапу сгорю и огнем умру, “и ктому не буду” [Пс. 38:14]. И “кая будет полза въ крови моей, егда сниду во истление?” [Пс. 29:10]. Волшьство мое “переимет инъ” [Пс. 108: 8]. И будет “дворъ мой пустъ, и в погосте моем не будет живущаго”» (с. 151).
Если прежде враги-язычники грозили Стефану сожжением и даже готовили солому для костра, то теперь огонь грозит их предводителю волхву Паму, который в отличие от Стефана смертельно испуган и который уподобляет сам себя ничтожной соломе - пище для жадного пламени.
В более раннем фрагменте Жития цитатами из Библии (из Псалтири) думал Стефан, теперь на языке псалмов выражает свои смятение и страх Пам, хотя, конечно, незнаком со Священным Писанием. Эти реминисценции из Библии в речи жреца можно трактовать как дань «литературному этикету» (термин Д.С. Лихачеву), как условный риторический прием. Он легко объясним: в Житии, как и во всей древнерусской словесности, господствует один взгляд на мир, признаваемый истинным; это православное христианство. И отверженный язычник не может не говорить о своем поражении, признавая торжество противника-христианина, на языке веры и культуры своего врага, на языке Священного Писания.
Но возможна и дополнительная, частная мотивировка, объясняющая цитирование Библии Памом, мотивировка, найденная именно Епифанием. Пам как бы оказывается в ситуации, внешне сходной, но на самом деле зеркальной по отношению к положению, в котором некогда пребывал Стефан, которому грозила смерть от огня. Стефан искал в Псалтири утешения и подкрепления души, Пам, как «анти-Стефан», тоже обращается к псалмам, но находит в них лишь язык для выражения собственного отчаяния и позора.
Смысловой ряд, связанный с понятием «огонь», продолжается и далее в тексте Жития. О Стефане сказано, что он «ражжегъся лучами божественых словес, имиже освети люди, прилежно научая, обращая, дондеже Христос просветитъ живущая в нихъ» (с. 178). В этих строках акцентированы значение «просвещение-свет» и благое духовное горение. Далее следует сравнение Стефана с углем («И пакы, яко же угль, ревностию божественою разгоревся [с. 178]), придающее миссионерскому подвигу Стефана значение пророческого служения. Слово «угль» отсылает к 6-ой главе Книги пророка Исаии, в которой дарование Исаии пророческого призвание символически обозначено поднесением к его устам угля, взятого ангелом с жертвенника.
Другое ключевое понятие и слово в Житии - стрела. В отличие от огня особенной смысловой ролью понятие «стрела / стрелы» наделены лишь в одном пространном фрагменте Житии. Но частотность, «густота» упоминаний о стрелах в этом фрагменте удивительна. Зыряне нападают на Стефана, чтобы убить его, о них сказано словами из ветхозаветной книги пророка Аввакума, но оказывается, что луки, упоминаемые в Житии, - это не метафора. Епифаний как бы «распечатывает, раскрывает метафору, превращая ее в предметный образ: «“напрязая напрягоша луки своя” [Авв. 3:9] и зело натянувше я на него купно, стрелам смертоносным сущим в луцехъ ихъ» (с. 96).
В дальнейшем на протяжении пяти небольших фрагментов (в современном издании они выделены как абзацы) слова «стрела / стрелы», «стреляти» и семантически близкие «лук» и «тул» (колчан) встречаются 24 раза. Сначала они наделены оттенком значения «смертоносное оружие врагов», затем приобретают новое, контрастное по отношению к первоначальному, значение: оружие праведника и Господа: «<…> [O]ружье Свое на вы оцистит и наострит; лук Свой напряже и уготова, и в нем уготова ссуды смертныя, стрелы Своя сгорющими (горящими. - А. Р. ) сдела» (с. 98).
Так под пером Епифания одно слово «стрела» разделяется на два окказиональных антонима, образующих антитезу: стрелы грешников, грозящие праведнику, - стрелы Бога, защищающего праведника.
Два контрастных значения приобретает в Житии образ древа - метафора человека. В начале Жития с «древом плодовитым» (образ из Псалтири, Пс. 1, ст. 2-3), сравнивается святой Стефан (с. 58); в конце же неплодной смоковницей (образ из Библии, ср: Мф. 21, 19; Мф. 3: 10, Ин. 15: 2) именует себя сам Епифаний (с. 260). Так текст Жития искусно замыкается в изящное композиционное кольцо: древу плодовитому - праведнику Стефану противопоставлен грешный создатель Жития, древо неплодное.
Плодоносящее древо как символико-метафорическое обозначение святого или его добродетелей и благих дел часто встречается в житиях. В краткой и пространной (Киприановской) редакциях Жития митрополита Петра (составлены в XIV в.) мать святого, будучи им беременна, видит чудесный сон: «Мнеше бо ся еи агньца на руку держати своею, посреде же рогу его древо благолиствно израстъше и многыми цветы же и плоды обложено, и посреде ветвеи его многы свеща светящых благоуханиа исходяща. И възбудившися, недоумеяшеся, что се или что конець таковому видению. Обаче аще и она недомышляшеся, но конець посъледе съ удивлением яви, еликыми дарми угодника Своего Богъ обогати» (текст пространной редакции. - Цит. По изд.: Клосс Б. Избранные труды. М., 2001. Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV-XVI веков. С. 36).
Ткань Жития скрепляется несколькими узлами - ключевыми понятиями. Текст Жития может быть уподоблен паутине со сложнейшим рисунком волокон. Особенно уместно это сравнение в отношении отдельных фрагментов Жития или даже отдельных предложений. К сравнению своего текста с паутиной прибегает и сам агиограф: «Подоба же скратити слово и не лише умудряти, не умея, или ухищряти и сущим любомудрецем, исполнь сущим разума и паче нас умом вышшим и вящшим. Мне же обаче полезнее еже умлъкнути, нежели паучноточная простирати пряденья, аки нити мезгиревых (паутинных. - А. Р. ) тенет пнутати (сплетать. - А. Р. )» (с. 260).
Это сравнение полюбилось исследователям Жития как образная и точная характеристика Епифаниева стиля. Нельзя, однако, забывать, что в цитируемых строках книжник представление «прядение» текста наподобие тканья паутины занятием скорее опасным или бессмысленным, чем благим. «Паучья» работа над словом трактуется Епифанием как крайний предел искусного пряденья, как избыточность стиля и ненужное «многоглаголание». Это тот соблазн, которого книжник желает избежать.
Другое образное, метафорическое обозначение собственного словесного труда Епифанием - «плетение словес». Это выражение и близкие ему встречаются во вступлении Жития и в финальной части - в плаче и похвале агиографа, образуя композиционную рамку текста. Во вступлении Епифаний пишет так: «Не бывавшю ми во Афинех от уности, и не научихся у философовъ их ни плетениа риторьска, ни ветийскыхъ глаголъ, ни Платоновых, ни Аристотелевых бесед не стяжах, ни философи, ни хитроречиа не навыкох, и спроста - отинудь весь недоумениа наполнихся. Но надеюся на Бога всемилостиваго и всемогущаго, <…>, Иже даеть нам милость Свою обилно Своею благодатию, и молися Ему, преже прося у Него слова потребна, аще дасть ми “слово надобно въ отверзение устъ моихъ”» (ср. Книга пророка Исаии, гл. 50, ст. 4).
Известный итальянский славист Р. Пиккио истолковывает эти строки как отказ Епифания от восходящей к античности риторической традиции, которой книжник противопоставляет сверхъестественный божественный дар словесного творчества. Соответственно, полагает исследователь, в этом контексте «плетение риторьско», плетение словес имеет отрицательный смысл: «Тот факт, что здесь Епифаний отвергает такие эллинские формальные средства, как “плетение словес”, а впоследствии постоянно сам “сплетает словеса”, не удивит нас, если мы не станем упускать из виду основополагающее различие между практическим использованием риторических приемов, с одной стороны, и их теологическим обоснованием - с другой. Отвергая эллинское красноречие, Епифаний вовсе не подразумевает, что определенные формы словесного выражения заведомо хороши или плохи. Важно не то, где берет начало его словесное искусство. Языческая риторика отвергается как источник мудрости именно потому, что истинная мудрость не может быть достигнута посредством человеческого умения; она исходит исключительно от Бога. <…>
Оппозиция ясна: нет - “Платону” и “Аристотелю”, т. е. земной мудрости, и да - молению, в данном случае не как религиозной деятельности, а как альтернативному литературному приему . Через моление можно получить “слово”, т. е. верный способ выражения мысли» (Пиккио Р. «Поэтика моления» Епифания Премудрого (Пер. с англ. О. Беловой) // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. Отв. Ред. Н.Н. Запольская, В.В. Калугин; Ред. М.М. Сокольская. М., 2003. С. 660).
Правда, в конце Жития выражение «плетение словес» лишено бесспорно отрицательного значения, и Епифаний посредством этого слова обозначает свой собственный стиль: «Да и азъ, многрешный и малоразумный, последуя словесемъ похвалений твоих, слово плетущи и слово плодя, и словом почтити мнящи, и от словесъ похваление сбирая, и приобретая, и приплетая <…>» (с. 250). Впрочем, хотя в этом фрагменте «плетение словес» не наделено безусловно положительным значением: это всего лишь способ работы книжника, обращающегося, как можно понять, из-за греховности и «малоразумия», к словам из чужих произведений, - за недостатком слов собственных. Шведский славист П.А. Бодин указал на возможный прообраз этого выражения: в четверг третьей недели Великого Поста в каноне на утрени (дополнительный девятый ирмос) звучит: «Словомъ невежи, премудри явистеся разумомъ, плетения словесъ мудрецов разрушившее <…> темъ апостоли Христови едини, всея вселенныя показастеся учителие» (Bodin P.A. Eternity and Time: Studies in Russian Literature and the Orthodox Tradition. Stockholm, 2007. P. 48). Невелеречивые слова истинно мудрых простецов - апостолов противопоставлены суетному краснословию мнимо мудрых «витий».
Р. Пиккио предлагает исследователям не использовать «плетение словес» как термин, ибо в тексте Жития Стефана Пермского он обладает откровенным двойственным смыслом: «<…> [Б]удет лучше избегать в дальнейшем еще большего запутывания этой двусмысленной формулой тех идеологических и художественных понятий, на которых основываются “украшенные” стили как южнославянских <…>, так и русских писателей (например, Епифания Премудрого)» (Пиккио Р. «Плетение словес» и литературные стили православных славян (Пер. с итал. Н. Миляевой) // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa. С. 652). Вместе с тем он признает, что «<…> Епифаний, отвергнув языческую риторику, представленную “плетением словес” (под которым понимается обманчивая словесная игра невдохновленных авторов), принимает риторику христианскую; другими словами, он не отвергает “плетения” как такового, но ему важно, чтобы сердце, т. е. источник свящзенного вдохновения, оставалось путеводителем языка и ума» (Там же. С. 650).
Скорее всего, на самом деле в Житии Стефана Пермского выражение «плетение словес» лишено как отрицательного, так и положительного оценочного значения. Епифаний в отличие от большинства древнерусских книжников, отрицавших благотворность риторики и грамматики (Успенский Б.А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI-XVII вв.) // Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1994. Т. 2. Культура и язык. С. 7-25), унаследованных от античности, по-видимому, относится к этим дисциплинам уважительно; признает он значение не только богословия, но и собственно философии («внешней философии»). Вот как книжник восхваляет мудрость и образованность Стефана: «дивны есь муж, чюдный дидаскал, исполнь мудрости и разума, иже бе измлада научился всей внешней философии, книжней мудрости и грамотичней хитрости. К тому же еще, добраго ради исповеданиа и чюднаго ради наказаниа его, изряднаго ради ученья его, дасться ему даръ благодатный и слово разума и мудрости, яко же Спасъ рече въ святемъ Еуангельи: “Сего ради всяк книжник, научився Царствию небесному, подобенъ есть человеку домовиту, иже износит от скровищь своих ветхая и новая”» [ср. Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 52] (с. 108).
Признание агиографа во вступлении к Житию, что ему неведомо «плетение риторьско», - не выражение его литературно-богословской позиции, но всего лишь вариант традиционной в житиях «формулы самоуничижения». Книжник признает свое невежество и неискусность и смиренно молит Бога, чтобы получить книжный дар сверхъестественным образом.
Каково значение выражения «плетение словес» как характеристики Епифаниева стиля, принятой исследователями? Д.С. Лихачев определяет этот стиль так: Д.С. Лихачевым: «пользование однокоренными и созвучными словами, ассонансами, синонимикой и ритмикой речи для создания своеобразного словесного орнамента» (Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России (1960) // Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1987. С. 46).
Как правило, Епифаний сочетает в пределах одного фрагмента приемы на звуковом, на синтаксическом, а иногда и на семантическом уровнях. Пример такого рода - обличение Стефаном зырянских идолов. Оно включает шесть синонимических цепочек (обозначены в цитате разными выделениями - подчеркиванием, полужирным шрифтом, курсивом, сочетанием курсива с подчеркиванием, сочетанием подчеркивания с полужирным шрифтом, сочетанием курсива с полужирным шрифтом). Слова в этом фрагменте также скрепляются звуковыми повторами - своего рода «нерегулярными рифмами», точнее, рифмоидными созвучиями (гомеотелевтами, или гомеотелевтонами). «Гомеотелевты <…>, т. е. созвучия окончаний, которые сопрягают одинаковые по своей грамматической форме слова и разнесены по концам синтаксических отрезков», в отличие от рифмы нерегулярны. Они встречаются еще в античной прозе, обильно представлены в ранневизантийской проповеди (Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. . М., 1997. С. 235). Гомеотелевты, а также ассонансы и аллитерации выделены прописными буквами; буквы или сочетания букв, обозначающие звуки и звукосочетания, повторяющиеся в этом фрагменте, отделены от других букв / звуков посредством коротких черточек. Стефан обличает идолов: «В Того веровати подобает паче , и Того чтИТИ добро есть , и Тому служИТИ лучши есть , нежели БЕ C -ОМ па-Г-У-Б-НЫМ , идол-ОМ БЕЗ-душ-НЫМ , ваши-М БО-Г-ОМ , к-У-мир-ОМ ГЛ-У-хи-М , БО-Л-ван-ОМ БЕЗ-ГЛ-ас-НЫМ , ИС-тука-На-М , БЕЗ-с-Л-овес-НЫМ , ИЗ-д-О-Л-Б-е-НЫМ , ИЗ-вая-НЫМ , всякого С-рама и С-туда ИС-полне-НЫМ, и ВС-якиа С-кверны дела-ТЕЛЕМ , и ВС-якого зла об-Р-ета-ТЕЛЕМ , и ВС-якого г-Р0еха тво-Р-и-ТЕЛЕМ » (с. 134).
Любовь Епифания Премудрого к синонимии исключительна. В Житии Стефана Пермского встречается синонимический ряд, состоящий из 25 слов. Большинство из них не являются языковыми синонимами, но приобретают функцию синонимов в этом единичном контексте. Окказиональная (контекстуально обусловленная) синонимия поддерживается созвучиями суффиксов и окончаний, рифмоидами-гомеотелевтами (три ряда рифмоидов выделены, соответственно, подчеркиванием, полужирным шрифтом и курсивом с полужирным шрифтом): «Что еще тя нареку? Вожа заблужшим, обретателя погибшим, наставника прелщеным , руководителя умомъ ослепленым , чистителя оскверненым , възискателя расточеным , стража ратным, утешителя печальным, кормителя алчющим, подателя требующим, наказателя несмысленым , помощника обидимым, молитвеника тепла, ходатая веры, поганым спасителя , бесом проклинателя , кумиром потребителя , идолом попирателя , Богу служителя , мудрости рачителя , философьи любителя, целомудрие делателя , правде творителя , книгам сказателя , грамоте Пермьстей списателя . Многа имена твоя, о епископе, многоименитство стяжал еси, многих бо даров достоинъ бысть, многими благодатми обогателъ еси» (с. 252).
Монотонность перечисления и заданный ею ритм разнообразятся благодаря варьированию числа слогов в словах, образующих синонимические выражения. Монотонность же рифмоподобных созвучий преодолевается благодаря чередованию трех цепочек: созвучий на «-еным», на «-ителя» и на «-ателя». При этом созвучия на «-ителя» и на «-ателя» образуют между собой некое рифменное эхо диссонансной природы: совпадают заударные (опорные) согласные и последующие гласные, но ударные гласные различны («и» и «а»).
Еще один пример синонимии. Пам восхваляет своих языческих богов, которые везде дают зырянам охотничью добычу: «елико еже в водах, и елико на воздусе, и елико в блатехъ, и в дубравахъ, и в борехъ, и в лузех (в лугах. - А. Р. ), и в порослех, и в чащах, и в березнике, и в сосняге, и въ елнике, и в раменье, и в прочих леcехъ <…>» (с. 136).
Д.С. Лихачев рассматривает синонимию в стиле «плетения словес» как выражение двух тенденций. Это установка на выразительность и эмоциональность текста и тенденция к абстрагированию, к выделению в разном общего и, в конечном счете, абстрактного. Для книжника важны не оттенки значения слов-синонимов (как обыкновенно в литературе Нового времени), а общее, что есть между ними (Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. С. 30). Однако синонимические ряды, выстраиваемые Епифанием, как правило, указывают скорее на стремление исчерпать все деяния и свойства святого Стефана - при этом разнородность его деяний важна для Епифания не менее, чем стоящее за ними единство личности и подвига проповедника-миссионера. Не случайно, Епифаний предпочитает именно окказиональные синонимы. И в речи Пама, обращенной к Стефану и зырянам, синонимическая цепь призвана выразить не столько «единство в разнообразии» (добыча даруется старыми богами везде, где она есть), сколько указать на изобилие рыбы и дичи, которой боги питают зырян в самых разных местах.
О предназначении синонимических рядов в стиле «плетения словес» выразительно написал Р. Пиккио: «Чтобы выразить волнение, чувство духовного очищения, нужны были понятия, заключавшие бы в себе самую основу, суть этих психологических состояний, и если чувство расплывалось в непередаваемых оттенках одного слова, тогда только поиск и подгонка синонимов или создание новых сложных именных или вербальных конструкций могли передать муку мистической медитации. “Плетущий словеса” автор стремился выявить в своей речи “истинную сущность” рассказанных фактов, очищая их от материального смысла и сублимируя исключительно в духовном содержании» (Пиккио Р. Древнерусская литература. С. 139).
Часто Епифаний прибегает к такой риторической фигуре, как единоначатия (анафоры): одинаковые слова или словосочетания открывают соседние предложения. На анафорических конструкциях построена речь волхва Пама, обращенная к Стефану: «“Или кто есть давый тебе власть сию?” [Евангелие от Матфея, гл. 21, ст. 23] Или кто есть пославый тя в землю нашю, да сия твориши? <…> И таковоеи лихохитросство сделал еси, ихже инъ никтоже не створи <…>. И таковую вещь сделалъ еси, еяже и слух нашь не вместит <…>» (с. 134).
В плаче Епифания об умершем Стефане пространные тирады вводятся анафорическим восклицанием «Увы мне!». Анафора вводит в текст риторические восклицания или вопросы.
Риторические вопросы также вводятся в текст плача двумя анафорами - «Или» и « И како / како». Два анафорических ряда образуют «плетенку», чередуясь между собою. Синтаксические конструкции в этих вопросительных предложениях одинаковы. Книжник обращается к приему синтаксического параллелизма. Прибегает здесь же Епифаний и к аллитерациям на «пр», «п» и «р» (они выделены в цитате полужирным шрифтом). Фонетическая «плетенка» весьма прихотлива и хитроумна. Сначала отдельно даются два звука, которые должны образовать аллитерационный ряд: «р» (в слове «нареку») и «п» (в слове «епископе»). Затем оба звука представлены как единый аллитерационный комплекс «пр», потом он распадается на автономные «п» и «р». Аллитерация «п», казалось бы, полностью вытесняет аллитерацию на «р», но «р» внезапно звучит вновь почти в самом в конце фрагмента («разложю»). Цитата из плача книжника по Стефане: «Но что тя нар еку, о еп ископ е? Или что тя именую? Или чим тя пр озову? И како тя пр овещаю? Или чим тя меню? Или что ти пр иглашю? Како п охвалю, како п очту, како ублажю, како р азложю и каку хвалу ти сп лету?» (с. 242).
Синтаксический параллелизм иногда охватывает очень большие фрагменты (тирады). Епифаний вопрошает себя, кем он мог бы наименовать Стефана («Апостола ли тя именую <…>?», «Законодавца ли тя прозову <…>?»; «Крестителя ли тя провещаю <…>?»; «Проповедника ли тя проглашю <…>?»; «Евангелиста ли тя нареку <…>?»; «Святителя ли тя именую <…>?»; «Учителя ли тя прозову <…>?»). В этих строках соединены синтаксический параллелизм, выступающий в роли синтаксической анафоры (однотипные по структуре вопросы), риторически вопросы, рифмоиды на суффикс «-тель» и окказиональная синонимия (в этом контексте все имеенования Стефана значат в конечном счете одно и то же, указывают на его миссионерский подвиг).
Епифаний иногда варьирует прием синтаксического параллелизма. Так, он выстраивает два предложения с аналогичной схемой, но во втором предложении преобразует утвердительную конструкцию в отрицательную. При этом по смыслу оба предложения сходны, говорят об угнетенности волхва Пама испытанным стыдом и позором. Цитата из речи зырянского кудесника: «Покры срамота лице мое, и ныне несть мне отврести устъ поношенью и студу» (с. 152). Далее Пам цитирует Псалтирь, где есть такой же синтаксический параллелизм: «“Весь день срам мой предо мною есть, и студ лица моего покры мя”» (с. 152, цитируется Пс. 43, ст. 16).
Часты в Житии и тавтологические конструкции, обыкновенно сопровождаемые приемом синонимии и фонетической игрой. В приводимом ниже фрагменте содержатся аллитерация на «с» вместе с приемом синонимии (синонимический ряд «чернец - мних [монах] - инок») в соединении с повтором однокоренных слов с корнем «един-»; примеры аллитерации на «с» выделены полужирным шрифтом, повторы выделены подчеркиванием: «А пермьскую грамоту единъ чернець с ложилъ, един ъ с ъс тавилъ, един с чинилъ, един ъ мних, един ъ инок, С тефан, глаголю, <…> един ъ во един о время, <…> един ъ инокъ, един ъ в уедин еньи уедин яяся, един ъ уедин енъ, един ъ един ого Бога на помощь призывая, един ъ един ому Богу моляся и глаголя <…>» (с. 184).
Природу словесных повторов и тавтологии в стиле «плетения словес» точно и доказательно раскрыл Д.С. Лихачев: «Зыбкость всего материального и телесного при повторяемости и извечности всех духовных явлений - таков мировоззренческий принцип, становящийся одновременно и принципом стилистическим. Этот принцип приводит к тому, что авторы широко прибегают и к таким приемам абстрагирования и усиления эмфатичности, которые, с точки зрения нового времени, могли бы скорее считаться недостатком, чем достоинством стиля: к нагромождениям однокоренных слов, тавтологическим сочетаниям и т. д.» (Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. С. 31).
В ритмическом отношении стиль «плетения словес» тяготеет к выстраиванию равноударных синтаксических отрезков, отделенныхдруг от друга паузами (колонов). В тексте могут прихотливо чередоваться два ряда колонов, отличающихся один от другого разным числом ударений. (См. об этом подробнее: Пиккио Р. «Плетение словес» и литературные стили православных славян. С. 644-651.)
Особенность семантических преобразований, метаморфоз слов в стиле «плетения словес» - обилие развернутых метафор. Один пример - сложная, составная метафора вспахивания земли, засевания и сбора урожая, обозначающая христианское просвещение, - приведен выше. Еще один пример - развернутая метафора плавания по морю жизни. Плетение метафорического ряда сопровождается на фонетическом уровне аллитерацией на «п», «р» и «пр» (выделены полужирным шрифтом): «Увы мне! Волнуяся п осреде п учины житейскаго моря, и како п остигну в тишину умилениа и како дойду в пр истанище п окаяниа? Но яко добр ый кр ъмникъ сый, отче, яко пр авитель, яко наставникъ, из глубины мя от стастей возведи, моляся» (с. 242). Этот «ряд связанных метафор», или «продленная метафора - вызывающая элементы сравнения» (Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. 2-е, испр. изд. М.; Л., 1927. С. 183). Составная метафора «море жизни» разделяется на отдельные слова - ее элементы («пристанище - пристань», «кръмникъ - кормчий», «глубина»), каждое из которых также метафорично. При этом Епифаний тяготеет к «двойным» иетафорам, в которых соединены два плана - внешний и подразумеваемый (море - житейское, пристань - покаяние, глубина - страсти).
У стиля «плетения словес» есть свои особенности и в поэтике цитации. Р. Пиккио принадлежит очень точное и емкое выражение «плетение цитат» (Пиккио Р. «Поэтика моления» Епифания Премудрого. С. 661). В Житии насчитывается 340 цитат, из них 158 - из Псалтири. Причем Епифаний варьирует цитаты, меняет грамматические формы исходного текста, приспосабливая их к своему собственному контексту (Вигзелл Ф. Цитаты из Священного Писания в сочинениях Епифания Премудрого // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1971. Т. 26. С. 232-243). Конечно, цитирование Священного Писания и создание своего произведения на основе библейских мотивов - цитат, и строительство собственного текста из «чужих слов» свойственны всей средневековой словесности, в частности и древнерусской. На и на этом фоне «пиршество цитат» в Житии выглядит «преизбыточествующем». Епифаний словно дал описание собственной поэтики цитации в словах, превозносящих мудрость Стефана: «К тому же еще, добраго ради исповеданиа и чюднаго ради наказаниа его, изряднаго ради ученья его, дасться ему даръ благодатный и слово разума и мудрости, якоже Спасъ рече в святемъ Еуангельи: “Сего ради всяк книжник, научився Царствию небесному, подобенъ есть человеку домовиту, иже износит от скровищь своих ветхая и новая”. Сице убо и сий от ветхихъ и новыхъ книгъ, от Ветхаго и Новаго завета, износя словеса, научая, врзумляя, наказая, обращая, пекийся о людех заблужшихъ, хотя их отрешити от соузы дьяволскыа и от прелести идолскиа» [ср. Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 52] (с. 109).
«Плетение словес», которое может показаться читателю Нового времени сухой и напыщенной риторикой, - на самом деле вовсе не набор чисто формальных приемов. Оно эмоционально и исполнено глубинного духовного смысла. Р. Пиккио так сказал о духовной основе стиля «плетения словес»: «Из-за ограниченности своего знания и понимания книжник может предложить лишь неполноценные замены истинному слову. В надежде, что каждый словесный знак отражает какую-либо грань семантического целого - а оно может быть выражено только через полное тождество с Высшим “творцом значений”, - “плетущий словеса” как бы зажигает во тьме смысловые маяки. В то же время высшая природа того, что он хочет выразить, вынуждает его иметь дело лишь с тенями невыразимых идей» (Пиккио Р. «Поэтика моления» Епифания Премудрого. С. 657). Сходным образом объяснял природу этого стиля Д.С. Лихачев: «Это игра слов особого характера, она должна придать изложению значительность, ученость и “мудрость”, заставить читателя искать извечный, тайный и глубокий смысл за отдельными изречениями, сообщать им мистическую значительность. Перед нами как бы священнописание, текст для молитвенного чтения, словесно выраженная икона, изукрашенная стилистическими драгоценностями» (Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. С. 32).
Между исследователями нет согласия в объяснении причин распространения стиля «плетения словес» на Руси, а также в Болгарии и Сербии на протяжении середины – второй половины XIV – начала XV вв. Д.С. Лихачев связывал этот стиль с исихазмом (греч. «спокойствие», «безмолвие») – религиозным движением, распространившимся в Византии и у южных славян в эту эпоху. Приверженность исихастов непосредственному мистическому общению с Богом определила, по мнению Д.С. Лихачева эмоциональность этого стиля, призванного передать глубину мистических переживаний святых и составителей их житий. Стиль «плетения словес» психологичен, но это «абстрактный психологизм»: изображаются отдельные переживания, но еще нет представления о целостном характере человека. Этот стиль Д.С. Лихачев назвал «экспрессивно-эмоциональным». «Извитие» слов, виртуозное использование различных риторических приемов исследователь связал также с исихазмом: исихасты исходили из представления о непроизвольной, сущностной связи означающего и означаемого, слова и названного ими понятия и предмета; для исихастов имя Божие заключало в себе сущность Бога. Д.С. Лихачев находил такие представления в трактате болгарского (переселившегося в Сербию) книжника Константина Костенческого (Костенецкого) «Сказание о письменах» (между 1424-1426), посвященном упорядочивании орфографических норм церковнославянского языка. Константин придавал исключительно важнсое значение правильности написания слов и их графическому облику; он настаивал на необходимости возвращения к орфографическим нормам старославянского языка, созданного Константином-Кириллом и Мефодием. Д.С. Лихачев доказывал, что орфографические идеи Константина Костенческого были связаны с орфографической реформой, проведенной в Болгарии по инициативе патриарха Евфимия Тырновского, приверженного исихазму. (В настоящее время признано, что никакой орфографической реформы патриарха Евфимия не было, упорядочение церковнославянской орфографии произошло задолго до времени Евфимия; см. об этом в кн.: Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2002. С. 273-274)
Истоки исихастского учения о слове Д.С. Лихачев усматривал в философии неоплатонизма. «Филологическое» внимание к слову, стремление выразить посредством слова до конца невыразимые мистические смыслы, обыгрывание фонетического подобия слов, ведущее к наделению смыслом отдельных букв / звуков, - все эти черты «плетения словес» ученый объяснял именно учением исихастов. По его утверждению, стиль «плетения» словес, или экспрессивно-эмоциональный стиль распространяется сначала на Балканах, а затем на Руси в течение второй половины XIV - XV вв. Проникновение этого стиля на Русь характеризует период так называемого «второго южнославянского влияния». (Первым периодом принято называть Х - XI вв., когда в Киевской Руси собственная письменность, словесность формируются под воздействием болгарской книжности.) Наиболее очевидно второе южнославянское влияние проявилось я сфере языковой, в восприятии русским изводом церковнославянского языка южнославянских норм графики и орфографии. См. об этом явлении: Соболевский А.И. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV - XV вв. // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. С. 888-903; Щепкин В.Н. Русская палеография. Изд. 3-е, доп. М., 1999. С. 142-145; Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). С. 269-339.
Среди произведений, написанных в стиле «плетения словес», Д.С. Лихачев называл кроме житий, составленных Епифанием Премудрым, сочиненияболгарских и сербских книжников. Это произведения Евфимия Тырновского, тексты, принадлежащие болгарину Киприану, ученику Константинопольского патриарха Филофея, ставшему митрополитом всея Руси, проповеди другого болгарина - Григория Цамблака, некоторое время занимавшего кафедру Киевской митрополии, жития и иные сочинения поселившегося в Русских землях сербского книжника Пахомия (Пахомия Серба, или Пахомия Логофета).
Время распространения экспрессивно-эмоционального стиля на Руси Д.С. Лихачев считал «русским Предвозрождением», утверждая, что русская культура этого времени во многом напоминает культуру западноевропейского Ренессанса (см.: Лихачев Д.С. 1) Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. С. 7-56; 2) Развитие русской литературы X-XVII веков: Эпохи и стили // Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 102-158).
Концепция Д.С. Лихачева была поддержана и развита западными славистами - Р. Пиккио и его учеником Х. Гольдблаттом. Но в отличие от Д.С. Лихачева Р. Пиккио и Х. Гольдблатт отказались от утверждения о неоплатонических истоках исихастского учения о слове (см.: Goldblatt Н. 1) On tеe Tеeory of Textual Restoration among tеe Balkan Slavs in tеe Late Middle Ages // Ricеercеe Slavisticеe. 1980-1981. Vol. 27-28. P. 123-156; 2) Ortеograpеy and Ortеodoxy. Constantine Kostenecki’s Teratise on tеe Lettres. Firenze, 1987 (Studia Еistorica et Pеilologica, 16)). Связь стиля «плетения словес» с исихазмом признается и некоторыми другими западными славистами. По мнению П. Матьесена, стиль «плетения словес» сложился по воздействием богослужебных текстов (гимнографии), созданных византийскими патриархами Исидором, Каллистом и Филофеем, которые были приверженцами исихазма. - Matеiesen R. Nota sul genre acatistico e sulla letteratura agiografica slava ecclesiastica nel XIV e XV secolo // Ricerеe slavisticеe. 1965. Vol. 13. 1965. P. 57 – 63
Однако далеко не все исследователи разделяют идею о зависимости стиля «плетения словес» от исихазма и трактовку исихастского учения, восходящую к работе Д.С. Лихачева. В 1960-х гг. югославский медиевист М. Мулич напомнил о том, что явления, аналогичные стилю «плетения словес», прослеживаются в южнославянской книжности и до XIV в., задолго до формирования исихазма как богословского течения. Ранее черты этого стиля обнаруживаются у ранневизантийских богословов и проповедников - отцов церкви (у Иоанна Златоуста, у Григория Богослова, отчасти у Василия Великого), у византийских гимнографов - создателей богослужебных текстов (у Романа Сладкопевца и др.); характерны приметы этого стиля и для византийской агиографии (жития Симеона Метафраста). На Руси приемы «плетения словес» обильно используют в своих проповедях митрополит Иларион (XI в.) и Кирилл Туровский (XII в.). (См.: Mulić M. 1) Pletenije sloves i еesiеazam // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. Zagreb, 1965. Knj.7. S.141-156; 2) Сербские агиографы XIII-XIV вв и особенности их стиля // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.,1968. Т.23. С.127-142.)
Связь между исихазмом и стилем сочинений Епифания Премудрого отрицает В.А. Грихин, указывая на ориентацию книжника прежде всего на раннехристианскую и библейскую традиции (Грихин В.А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV-XVвв. М., 1974). Не признает зависимость стиля «плетения словес» от исихастского учения и американский славист Х. Бирнбаум (Birnbaum Н. The Balkan Slavic Component of Madieval Russian Culture // Medieval Russian Culture. (California Slavic Stadies. Vol. 12). Berkeley, 1984. P. 3-30). Автор новейшего исследования «Сказания о письменах» Константина Костенческого (Констенецкого) П.Е. Лукин доказывает, что исихастам, осуществлявшим орфографические реформы в Болгарии и Сербии в XIV - начале XV в., было чуждо представление об абсолютной и непроизвольной связи между словом и обозначаемыми понятием и предметом (Лукин П.Е. Письмена и Православие: Историко-филологическое исследование «Сказания о письменах» Константина Философа Костенецкого. М., 2001. С. 167-275). Соответственно, концепция, выводящая стиль «плетения словес» из исисастского учения, предстает очень уязвимой.
Спорными являются и ответы и более общий вопрос о степени влияния исихазма на древнерусскую книжность, культуру, религиозное сознание. Наряду с мнением о значительности этого воздействия (Прохоров Г.М. Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 34. С. 3-37) существует и точка зрения, согласно которой это воздействие не было глубоким (Прокофьев Н.И. Нравственно-эстетические искания в литературе эпохи Куликовской битвы // Литература Древней Руси. М., 1983. С. 3-18).
Действительно, черты стиля «плетения словес» прослеживаются и византийской литературе, и в южнославянской книжности до эпохи второго влияния (у сербского агиографа Доментиана в XIII в.), и в произведениях Илариона и Кирилла Туровского. (Это сходство признавали, впрочем, и Д.С. Лихачев, и Р. Пиккио.)
Так, гомеотелевты можно встретить в древнерусской книжности еще у Илариона (два ряда рифмоидов выделены, соответственно, полужирным шрифтом и подчеркиванием): «<…> [В]иждь церкви цветущи , виждь христианьство растуще , виждь град иконами святыихъ освещаемь и блистающеся, и тимианомъ обухаемъ , и хвалами и божественами и пении святыими оглашаемь » (Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. третья. Приложение. С. 595).
Развернутая метафора засевания земли и сбора урожая, к которой прибегает Епифаний в Житии, прославляя миссию Стефана в Пермской земле, содержится у Кирилла Туровского: «Ныне ратаи слова, словесныя уньца (тельцов. – А. Р. ) къ духовному ярму приводяще, и крестное рало въ мысьленых браздах погружающе, в бразду покаяния прочертающе, семя духовное всыпающе, надежами будущихъ благ веселяться» («Слово в новую неделю по Пасце», цит. по изд.: Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII вв. / Сост. Н.К. Гудзий. . М., 2002. С. 55). Описание весны в этом слове Кирилла Туровского восходит к творениям отца церкви, ранневизантийского проповедника и богослова Григория Назианзина. (См. об этом: Сухомлинов М.И. Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908. С. 304-398; Vaillant A. Cyrill et Grégoire de Nazianzine // Revue des études slaves. 1950. T. 26. P. 34-50).
Вместе с тем, сочинения большинства книжников, связанных с южнославянскими традициями и принадлежавших к исихастам, лишены ярких примет этого стиля. Так, «плетение словес» на самом деле чуждо сочинениям Киприана и Пахомия Серба. В древнерусской литературе второй половины XIV - первых десятилетий XV века произведения, написанные этим стилем, единичны. Это Жития Стефана Пермского и Сергия Радонежского, составленные Епифанием Премудрым, и включенное в состав летописных сводов Слово о житии Димитрия Иоанновича, царя русского, приписываемое некоторыми исследователями тоже Епифанию. Поэтому едва ли оправданно и говорить о «плетении словес» как о стиле эпохи, и жестко связывать его примеры в православной славянской книжности с исихазмом.
Распространение стиля «плетения словес» в агиографии свидетельствует об ориентации составителя житий на панегирическую словесность (поэтику похвальных слов), на поэтику церковных гимнов и, в конечном итоге, на тексты Священного Писания. Расцвет стиля «плетения словес» в творчестве Епифания может объясняться духовным, религиозным подъемом, охватившим в то время Русские земли. Возрождение старинных монастырских традиций, связанное с Сергием Радонежским и его учениками, миссионерство Стефана, пробуждение богословской мысли и вероятный интерес к исихазму - таковы проявления этого религиозного возрождения, конечно не имевшего ничего общего с западноевропейским Ренессансом, культивировавшим Античность как образец, обмирщение и гуманистические идеи. «Исключительный характер этого предприятия определил то горячее одобрение, с каким оно было встречено в православных кругах. В самом деле, впервые славянская церковь выступила не в роли ученицы (какой она всегда была по отношению к Византии, невзирая ни на какие попытки доказать свою автономность), но в роли Учителя и Наставника. Это был повод для небывалого взлета красноречия, и Епифаний воспел новую славу церкви таким пышным слогом, какого русская апологетика еще никогда не знала» (Пиккио Р. Древнерусская литература. С. 139).
Расцвет стиля «плетения словес» может отчасти объясняться и сознательной ориентацией Епифания на высшие образцы книжности Киевской эпохи - на проповеди Илариона и Кирилла Туровского. Обращение к киевскому наследию явственно в это время, как показал Д.С. Лихачев, в разных областях древнерусской культуры. И, наконец, в стиле «плетения словес» в какой-то мере проявились индивидуальные черты творческого дара Епифания, одного из самых одаренных древнерусских книжников.
Истоки стиля «плетения словес» - библейские. Синтаксический параллелизм, столь любимый Епифанием, - прием, постоянно встречающийся в Псалтири. (Видимо, не случайно составитель Жития так часто цитирует именно эту библейскую книгу). Встречается синтаксический параллелизм и в Новом Завете, например в Евангелии от Иоанна: «Овьца моя гласа Моего слоушають, и Азь знаю я (их. – А. Р. ), и по мне грядоуть, и Азь животь вечьныи даю имъ, и не погыбнуть въ векы, и не въсхытить ихъ никто же от роукоу моею» (гл. 10, ст. 27-28, славянский текст Евангелия от Иоанна цитируется по Архангельскому Евангелию: Архангельское Евангелие 1092 года; Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели. Изд. подготовили Л.П. Жуковская, Т.А. Миронова. М., 1997. С. 368, л. 163 об.).
Приемы «плетения словес» многочисленны в ранневизантийских проповедях. В них есть и звуковые повторы, например аллитерации и гомеотелевты, и тавтология, и повторы одинаковых синтаксических конструкций. Пример - из Слова на Благовещение, написанного Иоанном Златоустом. Тавтологии в цитате выделены подчеркиванием, два ряда гомеотелевтов - полужирным шрифтом и полужирным шрифтом с курсивом, аллитерации на «р» - прописной буквой, аллитерации на «п» - прописной буквой и курсивом: «Не те-Р-П- лю луча его, Р-оди бо бо ся ми паки светъ, и ужасаюся ст-Р-ахомъ. Р-ожеству Р-адуюся, и образ смущаеть мя: нова источника источяща з-Р-ю и д-Р-евняго источника смот-Р-яю бежаща. Младо видехъ Р-аждаемое, и небеса, П -Р-еклоняющя ся на П -оклонение ему. Мате-Р-е, Р-аждающа а Съдетеля и ложесна не Р-азве-Р-зающ ую; от-Р-очя, свое П- ечатлеюща Р-ожество, и Р-одителницу безмужную; Сына, без Отца и Спаса Р-аждающася, и звезду сиающю; и П- еленами младенца П- овиваема <…>» (Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2003. Т. 12. XVI век. С. 136).
Черты «плетения словес» свойственны и византийской гимнографии. Вот пример из кондака (вид богослужебного гимна) на Неделю Православия. Это искуснейшее сплетение тавтологии («образъ вообразив»), оксюморона («неописанное описася»), варьирования одного и того же корня (-образ-): «Неописанное Слово Отчее, изъ Тебе Богородице описася воплощаемь, и оскверншиися образъ въ древнее вообразивъ, божественною добротою смеси: но исповедающе спасение, деломъ и словомъ сие воображаемъ» («Неописанное Слово Отца оказалось описанным через Воплощение от Тебя, Богородица, и осквернившийся образ Оно растворило красотою Божества, возвращая к первоначальному, и мы, исповедая спасение, вносим его образ в наше дело и слово»).
Стиль «плетения словес», равно как и сходные приемы в проповедях Илариона и Кирилла Туровского и в византийской гимнографии, питает и взращивает живое противоречие христианской культуры, противоречие между трансцендентностью, неотмирностью Бога, с одной стороны, и присутствием Бога в тварном мире, в том числе в слове человеческом, с другой. Эту неразрешимую тайну, этот парадокс веры и стремится выразить книжник, прибегая к плетению слов. (См. о нем, например: Аверинцев С.С. «Богу ли жить на земле?» (3 Цар. 8: 27): присутствие Вездесущего как парадигма религиозной культуры // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2003. Т. 54. С. 58-65.) Стремится выразить невыразимое.
© Все права защищены
Так же, как в древнерусской книге страницы сплетались между собой и прочно крепились к переплёту, так и слова заплетались в витиеватые предложения и окружались рамкой из красивого и сложного орнамента. Книга была единым символическим пространством, где, например, текст составлялся подобно графическим украшениям. Эта редкая, несколько загадочная и искусная техника получила название «плетение словес».
Плетение словес возникает в конце XIV - начале XV веков. Момент во многом переломный: в искусстве появляются новые темы, художники ищут новые приёмы, а авторы сочинений только-только начинают интересоваться человеческими чувствами. Однако средневековый свод правил и положений всё ещё нависает над волей творца и сковывает его инициативу. В этой непростой ситуации древнерусские книжники изобретают компромисс: не нарушая старых канонов, они «прокачивают» сами способы изложения – теперь язык становится таким же изощрённым и оригинальным, как и книжные украшения – орнаменты, оплетающие заставицы и рамки. Сложно даже сказать, слова ли копировали плетёнку орнамента или орнамент рисовался как одна большая фраза с потайным смыслом, который только предстояло разгадать.
Этот новый, но всё такой же содержательный и символический стиль, приходит на Русь из Византии через Сербию и Болгарию. Однако речь не идет о простом копировании, русский стиль плетения стал самостоятельным, а технические приемы, которыми пользовались древние мастера, нигде больше известны не были.
Плетение словес – это своеобразный словесный орнамент, в котором причудливым образом сочетаются созвучные слова, синонимы, особым образом нагнетаются сравнения и эпитеты. Вместе с ним на страницах книг появляется и плетёный рукописный орнамент, лучшие образцы которого рисовались в Новгороде, Пскове и Троице-Сергиевой лавре. Он появился из так называемого тератологического орнамента – орнамента, в котором причудливо переплетались диковинные и фантастические звери, невиданные птицы и сказочные растения.


Рукописный орнамент, несмотря на определенный канон, никогда не повторялся. Со временем он становится только вычурнее, изысканнее и декоративнее. Иногда рисунок как будто специально перегружался деталями, вьюны и завитушки заполняли собой всё свободное место, перекидывались на буквицы и нависали над словесным рядом подобно ниспадающим садам Семирамиды.
Признанными мастерами такого стиля были художники Троице-Сергиева монастыря. А одним из непревзойденных умельцев плетения словес был Епифаний Премудрый, умевший доводить прозаический текст до состояния поэзии. Вот яркий пример плетения словес Епифания Премудрого, в котором, кстати, автор сам указывает на свой неповторимый стиль.
«…Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словесем похвалении твоих, слово плетущи и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словесе похваление събираа, и приобретав, и приплетав, паки глаголя: что еще тя нареку, вожа заблуждьшим, обретателя погыбшим, наставника прелщеным, руководителя умом ослепленым, чистителя оскверненным, взискателя расточеным, стража ратным, утешителя печалным, кормителя алчющим, подателя требующим, наказателя несмысленым, помощника обидимым, молитвеника тепла, ходатаа верна, поганым спасителя, бесом проклинателя, кумиром потребителя, идолом попирателя, богу служителя, мудрости рачителя, философии любителя, целомудрия делателя, правде творителя, книгам сказателя, грамоте перьмстей списателя».
Древнерусские авторы называли подобное письмо «словесной сытостью». Но за чисто внешним излишеством, ненужным на первый взгляд перечислением, строго выдержанным ритмом и шумным витийством скрывается тихая медитация, в которой читатель сам не замечает, когда от игры со словами он переходит к смыслу того, что за ними лежит. Определённый ритм нужен Епифанию, чтобы привести читателя в экстаз и заставить его удивляться святым и его деяниями (в основном, словеса плели в житиях).

В качестве материала для словесного орнамента древние мастера брали цитаты из Священного писания. В результате такие компиляции становились словесным узором, который был вдвойне символичным. Иногда в текстах не было почти ни одного авторского слова, так что он был целиком сплетен из цитат, взятых из разных частей Библии, однако бережно собранных и соединенных по смыслу.
Плетение словес в конечном счёте стало сродни восточным техникам вышивания ковров, где мастерство и сложность вышивки были гарантией того, что второго такого ковра никто не сошьёт. Однако как таковых авторов в то время ещё не было – они считались лишь мастерами-искусниками, накладывающими на страницы древних книг слово и волю Божью в виде самого сложного словесного и рукописного орнамента.
Диссертация
Абрамова, Ирина Юрьевна
Ученая cтепень:
Кандидат филологических наук
Место защиты диссертации:
Нижний Новгород
Код cпециальности ВАК:
Специальность:
Русский язык
Количество cтраниц:
ВВЕДЕНИЕ. 1. Актуальность проблематики работы.
§ 2. Предмет и задачи работы.
§ 3. Материал-исследования.
§ 4. Методы и методика исследования,объем фактического материала.
§ 5. Научная новизна исследования.
§ 6. Теоретическая и практическая значимость исследования.
ГЛАВА I. «ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС» И ЕГО МЕСТО В РАЗВИТИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.
§ 1 .Период второго южнославянского влияния в истории русского литературного языка.
1.1.Исюсастскоеучение как философская основа "плетения словес ".
1.2. О «восточном » генезисе стиля «плетение словес ».
§ 2.0 термине «стиль плетение словес ».
§ 3. Прием «плетения словес » в лингвистической и философской интуиции.
ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВ ЖИТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
§ 1. Структурно-семантический анализ содержания агиографических текстов как основа изучения синтаксической организации текста.
§ 2. Структурно-семантический анализ организации текстов, написанных Епифанием Премудрым («Житие Стефана Пермского », «Житие Сергия Радонежского ») и функции стиля «плетения словес » в различных структурно-семантических блоках агиографических текстов.
2.1. Структурно-семантический анализ организации «Жития Стефана Пермского ».
2.2. Структурно-семантический анализ текста «Жития Сергия Радонежского ».
2.3. Структурно-семантический анализ текста «Жития Феодосия Печерского ».
2.4. Краткие выводы.
ГЛАВА III. СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ СТИЛЯ «ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС ».
§ 1. Общая характеристика синтаксической организации речи в древнерусских текстах с «плетением словес » в сопоставлении с
Житием Феодосия Печерского».
1.1.Двусоставностъ-односоставностъ как важный признак грамматической структуры простого предложения-высказывания.
1.2. Роль структурных типов в синтаксической организации «плетения словес ».
1.3. Осложненностъ структуры простого предложения-высказывания в анализируемых текстах.
§ 2. Синтагматика грамматической структуры простого предложения-высказывания в текстах «плетения словес » в сопоставлении с «Житием Феодосия Печерского ».
2.1. Протяженность как существенная характеристика грамматической структуры предложения в анализируемых текстах.
2.2. Развертывание высказывания в анализируемых текстах.
2.3. Синтагматика грамматической структуры простого предложения-высказывания с учетом грамматических связей между грамматическими элементами в житиях, относящихся к «плетению словес », в сопоставлении с «Житием Феодосия Печерского ».
Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Структурно-семантическая и синтаксическая организация агиографических текстов стиля "плетение словес" :На материале житий XIV - XV вв."
1. Актуальность проблематики работы
Период конца XIV- начала XV в. явился важным этапом в истории русского литературного языка.
Для Руси того времени существенное значение приобрели тесные культурные связи с Византией, Болгарией, Сербией, оказавшие заметное влияние и на письменный литературный язык. Многообразные и сложные процессы, происходившие в русском обществе в конце XIV - начале XV в., - идеологические, политические, культурные, - приводят к значительным изменениям и в письменном литературном языке того времени, которые в науке получили название «второго южнославянского влияния».
Хотя проблема второго южнославянского влияния подвергалась тщательному анализу исследователей, ряд вопросов не получил должного раскрытия. И прежде всего нерешенные вопросы касаются отражения стиля «плетение словес » в синтаксисе . Кроме того, задачи, поставленные акад.Д.С.Лихачевым на IV Международном съезде славистов [Лихачев 1958], а именно задачи, касающиеся культурных связей Московской Руси со Средиземноморьем, так и остались нерешенными. А между тем, по нашему мнению, именно в эстетических и культурных традициях стран Средиземноморья можно найти ответы на вопросы генезиса стиля «плетения словес ».
В это время на Русь устремляются ученые, выходцы с Балкан и из Византии, среди которых такие выдающиеся деятели, как митрополит Киприан, писатель Григорий Цамблак, агиограф Пахомий Логофет, иконописец Феофан Грек. Вместе с ними на Русь попадают южнославянские рукописи, новые переводы с греческого. Тогда же Руси стали широко известны труды Дионисия Ареопагита, Иоанна Листвичника, Григория Паламы, которые оказали огромное влияние на умы видных деятелей европейской культуры.
Одновременно с этим Русь усвоила и новый витийственный панегирический стиль «плетение словес », или «извитие словес », в агиографии, который возник как продолжение традиций античных риторик в византийский период развития греческой литературы и был развит на славянской почве в «похвальных словах » св. Иоанну Рильскому, в произведениях сербских агиографов. Первоначально эта манера письменного изложения «насаждалась только в книжно-славянском типе языка и составляет его отличительный признак в XV - XVI вв.» [Клименко 1986, 11; Лихачев 1958; Мошин 1963; Дмитриев 1964; Грихин 1974; Филин 1981 и др.]. Философской основой нового стиля «плетение словес » стало исихастское учение, основанное на внимательнейшем отношении к слову. «Безмолвие » исихастов было связано с идеей «невыразимости » божественной сущности в слове, с сознанием таинственной силы слова. Христианские истины проявляются во всех явлениях жизни. Такой подход определяет новый способ восприятия и отражения действительности [Лихачев 1958]. Автор как бы «реконструирует » на основе многих характеристик образ святого: стремится увидеть в этом образе «подобие » Христа. Образ святого - это подобие архетипу. При «плетении словес » подобие создается свободным, искусным подбором и нагромождением имеющихся образцов (характеристик). Отчасти это «механическая » деятельность. Результат сказывается на содержании произведений: в обобщении, абстрагировании, мистификации описываемой действительности. Изображая святого по подобию Христа, автор тем самым сакрализует действительность.
В жанре шло активное разрушение житийного канона, вытеснение его речевым этикетом, который требовал соблюдать общепринятую форму изложения. Следствием такого разрушения явилось изменение принципов жанро-и стилеобразования: сущностные характеристики заменяются формальными, функциональными. «Литературный этикет » требует художественного вкуса, тогда как канон требовал «духовной зоркости и чуткости ». Стиль «плетение словес » поэтому определяют как риторический и панегирический. В связи с этим представляется необходимым выяснить, в чем выражается риторизм в синтаксисе, какие приемы использует автор для создания произведения в «панегирическом стиле ».
Внутренние переживания человека - это новая ценностная ориентация древнерусской литературы. Теоцентризм, преобладающий в литературе более раннего периода, постепенно уступает место антропоцентризму . Синтаксис становится более эмоциональным, экспрессивным . Возникает вопрос, требующий разрешения: как это отражается на построении предложения, периода?
Выдающимся мастером новой манеры выражения и автором термина «извитие словес » был Епифаний Премудрый - автор «Жития Стефана Пермского » и «Жития Сергия Радонежского ». Литературная 4> деятельность Епифания Премудрого способствовала утверждению в литературе стиля «плетения словес », который, обогащая литературный язык, содействовал дальнейшему развитию литературы, изображая психологическое состояние человека, динамику его чувств. В литературе XIV - XV века проявилось повышенное внимание к внутреннему миру чувств человека. Памятники, написанные Епифанием Премудрым, оказывали заметное влияние на развитие литературного языка вплоть до конца XVIII века, поэтому они заслуживают пристального внимания исследователей, прежде всего с лингвистической точки зрения.
Однако следует заметить, что имеющиеся в научной литературе характеристики «плетения словес » не отличаются определенностью и точностью. Наиболее популярные из них, как отмечал акад. Д.С.Лихачев, говорят об «искусственных литературных приемах », об «искусственности, напыщенности и витиеватости » этого стиля, о том, что «речь становится до б невозможности вычурна и расплывчата, полна словесных ухищрений», характеризуют его как «торжественно-риторический стиль», как стиль «риторически многословных и витиеватых панегириков» [Лихачев 1956, 25]. В лингвистическом плане, в частности, синтаксическом, «плетение словес » до сих пор не изучено. А ведь «пышность, искусственность, вычурность, витиеватость, торжественность могут быть различной стилистической природы, преследовать различные цели, соответствовать разным художественным методам» [Лихачев 1956,26].
Очень важным для выявления особенностей «плетения словес » является изучение функционирования языковых единиц в стилях отдельных славянских писателей XIV - XV вв., в частности, Епифания Премудрого. Исследование текстов с данной точки зрения остается едва ли не ведущим направлением современной стилистики . При этом остается за пределами внимания ученых тот факт, что стиль, кроме внешнего выражения в виде единиц языка, имеет и внутреннее строение, формирующее сам облик стиля и в целом - дискурс текста.
Разумеется, что «плетение словес » требует как своей более точной характеристики, так и своего более точного объяснения. Кроме того, остается неясным также и то, как влияло «плетение словес » на организацию текста и менялось ли что-нибудь в структуре текста в к.Х1У -нач. XV в. по отношению к канону написания житий.
На наш взгляд, показательным является и то, что в научной литературе до сих пор нет точного определения термина ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС - более того, этот термин вообще отсутствует в словарях лингвистических терминов. $ 2. Предмет и задачи работы Предметом изучения в данной работе явился стиль «плетение словес », представленный в старорусской агиографии.
Объект исследования - синтаксические конструкции, на которые опирается текст, сформированный в данной манере.
Цель работы состоит в изучении синтаксической организации текстов стиля «плетение словес ».
В работе были поставлены следующие задачи:
1. На основе анализа лингвистической литературы выявить основные признаки стиля «плетение словес ».
2. Получить данные о грамматической структуре простого предложения-высказывания, о его синтаксических характеристиках в текстах, написанных в стиле «плетение словес » и на основе этого установить характер синтаксической экспликации «плетения словес ».
3. Выяснить, каким образом грамматическая структура предложения влияла на структурно-семантическую организацию текстов житийной литературы, выполненных в стиле «плетение словес ». 3. Материал исследования
Материалом для наблюдения и анализа в работе послужили 3 древнерусских текста. Прежде всего это памятник, наиболее показательный для агиографического стиля, развившегося на Руси в XV -XVI вв. - «Житие Стефана Пермского » [в дальнейшем - ЖСП], явившееся классическим образцом «плетения словес ». Житие было написано в 1396 - 1398 гг. Епифанием Премудрым. Древнейший из дошедших до нас списков ЖСП датируется XV в., а всего известно примерно 20 списков «Слова о житии и учении Стефана Пермского » XV - XVII вв. и более 30 списков разного рода сокращенных редакций. В XVI в. оно вошло в состав "Великих Миней Четиих" митрополита Макария. Эмоциональность изображения - одна из характерных черт произведений Епифания
Сравнение композиции ЖСП (введение, основная часть и риторическое завершение) с композицией других житий позволяет говорить о том, что она оригинальна и принадлежит авторству Епифания Премудрого. Риторическое завершение делится на 4 части, в каждой из которых присутствует три стиля: летописный, фольклорный и похвальный.
Другим замечательным памятником XV в., написанным Епифанием Премудрым (1417 - 1418 г.), было «Житие Сергия Радонежского » [в дальнейшем - ЖСР], в котором также проявляется «плетение словес » , хотя и не так отчетливо, как в «Житии Стефана Пермского ».
Самый ранний список пространной редакции «Жития Сергия Радонежского » относится к середине 20-х гг. XVI века. Как известно, авторский оригинал Епифания не сохранился в целостном виде, но в науке ф> установилось мнение [Филин 1981; Грихин 1974, 1978], что лишь пространная редакция этого памятника заключает в себе наибольшее количество фрагментов, воспроизводящих непосредственно епифаниевский текст.
В рукописной традиции данная редакция представляет собой разделенное на 30 глав повествование.
Житие Сергия Радонежского» по сравнению с «Житием Стефана Пермского » носит более повествовательный характер, стилистически оно значительно проще и более насыщено фактическим материалом. Эти жития сближает то, что композиция их во многом тождественна.
Как отмечалось выше, ЖСР более насыщено фактами, чем ЖСП. Это объясняется, видимо, тем, что Епифаний писал его «на основании подобранных им в течение двадцати лет документальных данных,. .своих воспоминаний и рассказов очевидцев» [Филин 1981,330].
Изысканность «плетения словес » Епифания Премудрого сочетается в «Житии.» с необычайно простым языком. Несмотря на это, житие показалось братии Троице-Сергиева монастыря слишком цветистым, и они просили Пахомия Серба упростить текст. Пахомий сокращает Епифаньевский текст, заменяет лиризм Епифания общими местами в панегирическом стиле, «придает ему парадность и усиливает элемент похвалы ». [Филин 1981,331]. Таким, образом, собственно с именем Епифания исследователи связывают Предисловие, 30 глав Жизнеописания и «Похвальное слово ».
С целью выявления особенностей «плетения словес » в сравнении был взят агиографический текст, относящийся к более раннему периоду древнерусского языка. Классическим примером памятников такого рода является «Житие Феодосия Печерского » [в дальнейшем - ЖФП] -памятник русской агиографической литературы, созданный в 80-х гг. XI в. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Жизнеописание святого, как того требовал жанр произведения, должно было содержать ряд традиционных сюжетных мотивов, которые встречаются и в ЖФП. Житие лишено риторических рассуждений, оно сюжетно и динамично.
Житие дошло до нас в списке XII века в составе рукописного сборника XII - XIII вв., хранившегося в Успенском соборе Московского Кремля и известного под названием «Успенский сборник ».
ЖФП стало эталоном, классическим образцом для более поздних агиографов: во многих житиях основателей старорусских монастырей не только использованы ситуации, отдельные положения ЖФП, но подчас целые отрывки текста. 4. Методы и методика исследования, объем фактического материала
Житийный текст по своему содержанию и форме относится к числу таких жанров церковно-книжной литературы, которая, наряду с назидательной функцией, выполняла также и богослужебную функцию, поскольку в раннехристианской церковной службе в день памяти святого читались их жития.
Привязанность к богослужебному канону требовала и от жития устойчивости в форме и содержании. Потому в агиографических текстах можно обнаружить устойчивые, привычные формы: повествование о жизни до монашества, учение, отрешение от мира и т.д.
Но поскольку житие - это не вполне канонический богослужебный текст, в него легче, чем, например, в евангельские тексты, проникали некие инновации, касающиеся содержания, построения текста.
Варьирование последовательности событий, излагаемых в нарративной части жития, безусловно, сказывалось на характере построения дискурса .
Под дискурсом нами понимается определенная последовательность развёртывания содержания, облекаемого в определенные синтаксические формы с определенным способом эстетической организации словесного материала. Таким образом, дискурс текста структурируется в нескольких аспектах:
1) с точки зрения логического развертывания содержания;
2) в отношении синтаксических конструкций, традиционно используемых при построении текста; и
3) в плане использования средств изобразительности и выразительности.
Из сказанного следует, что выявить жанровые изменения в агиографическом произведении означает установить изменения в тексте по всем указанным аспектам. Очевидно, что понятие «текста » выступает основным понятием такого многоаспектного исследования.
Как можно заключить из сказанного, понимание текста жития требует особого исследовательского подхода, который дал бы возможность выявить, опираясь на особенности его содержания и формы, черты, характерные для произведений данного жанра. Этому требованию отвечает структурно-семантический принцип анализа, который опирается на следующие постулаты:
2. С этой точки зрения в тексте мы выделяем отдельные структурно-семантические блоки, которые, в свою очередь, строятся вокруг семантической доминанты, имеющей определенное лексическое и синтаксическое выражение.
3. Между структурно-семантическими блоками существуют разнообразные логические, смысловые связи (последовательная, изъяснительная , причинная). Связь на лексическом уровне выражается в «перекличке » ключевых слов, вокруг которых формируются такие блоки.
Предложенный структурно-семантический подход к тексту обеспечивает его системный анализ и создает условия сравнительного изучения нескольких текстов, принадлежащих к одному или разным жанрам.
Наряду с вышеописанной нами использовались традиционные методики: наблюдения, описания, сопоставления. При сопоставительном изучении синтаксических характеристик, представленных в текстах, использовался, наряду и в сочетании с традиционными, вероятностно-статистический метод, в основе которого лежит выборочное обследование текстового материала.
Из каждого древнерусского текста нами было взято по 10 выборок, каждая объемом в 100 простых («элементарных ») высказываний . Выборки в анализируемых произведениях брались из разных блоков текста, однако каждая конкретная выборка представляла собой сплошной текстовый отрывок. В целом было выделено и проанализировано 3 012 простых предложений-высказываний, в том числе: по тексту ЖСП - 978, по тексту ЖСР - 994 и ЖФП - 1040 предикативных единиц.
Все простые предложения-высказывания брались в их реальной речевой последовательности в тексте.
Выделение простых предложений-высказываний в древнерусских текстах сопряжено с рядом трудностей. Дело в том, что знаки препинания не могут служить точным критерием выделения. Поэтому необходимо учитывать «объективные критерии », позволяющие установить границы между простыми высказываниями в речи, из которых важнейшим является наличие в синтаксическом образовании предикативного ядра, представленного соединением сказуемого с подлежащим или единственным главным членом (в односоставном предложении) [Рылов 1990, 43 - 44].
Анализ грамматической структуры простого предложения-высказывания проводился по специальной программе, включающей следующие признаки:
I. Структурный тип простого предложения-высказывания.
II. Осложненность структуры простого предложения -высказывания.
III. Синтагматические позиции в структуре простого предложения-высказывания.
IV. Грамматические элементы в структуре простого предложения-высказывания.
Полная программа наблюдения приводится в «Приложении ».
Выделенные простые предложения-высказывания в соответствии с программой наблюдения подвергались кодовой записи, которая в большинстве случаев сопровождалась схематическим изображением грамматической структуры простого предложения-высказывания. Для иллюстрации приведем примеры такой записи:
Kd/ио?аиде доврота твога /калю отъид! отт* иась/ или камо era (си дмт^/ отт* нас и^иде/ а иасъ сирт^т* оставили* ich, пастВше иашь довр"ыи/ оставили* еси cboi си стадо ^авлВждатисга и скт^татисга по горалп*/ гороплен"ылгк и волк©хицжгылгк въгги1 (ЖСП)
Таблица № 1.
Образец кодовой записи синтаксических характеристик простого предложения - высказывания
1 1 1 7 камо 2 2
2 10 1 7 камо 2 2
3 3 1 7 камо 2 3
1 При цитации памятников придерживаемся орфографических принциповов, характерных для разных источников.
Полученные таким образом кодовые записи синтаксических характеристик простых предложений-высказываний подвергались затем статистической обработке и обобщению. В результате по каждому # признаку программы были получены статистические таблицы, которые приводятся в «Приложении » (таблицы 1 - 5). При описании и осмыслении полученных количественных данных обращалось внимание и на качественную, содержательную сторону изучаемых синтаксических явлений. $5. Научная новизна исследования.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые делается попытка проследить ^генезис «плетения словес », предполагая его восточные корни, выявить существенные признаки данного стиля, опираясь на анализ синтаксических конструкций, используемых автором, и проанализировать структурно-семантическую организацию текстов, относящихся к «плетению словес ».
§6. Теоретическая и практическая значимость исследования.
Диссертационное исследование имеет как теоретическое, так и практическое значение. Результаты исследования важны для разработки теоретических проблем истории русского литературного языка и исторической грамматики русского языка (синтаксис). Материалы диссертации используются автором при проведении практических занятий по курсу «История русского литературного языка », включенного в учебный план подготовки студентов-филологов в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского; могут использоваться в практике вузовского преподавания лекционного курса истории русского языка, при чтении спецкурсов по истории русского языка.
Основные положения и результаты диссертационного исследования £ были представлены на научных конференциях в Н.Новгороде (1998, 2001,
2002, 2004 гг.), Владимире (1999 г.), а также изложены в 13 публикациях, из них 7 статей и 6 тезисов.
Заключение диссертации по теме "Русский язык", Абрамова, Ирина Юрьевна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При анализе лингвистической литературы нам удалось выявить наиболее существенные признаки, раскрывающие содержание термина «плетение словес »: ритмизация текста, основанная на приеме гомеотелевта , абстрагирование и метафоричность, использование для создания пышности сложных слов, нанизывание синонимов и связанное с ним явление полиномии , использование в текстах «плетения словес » различных стилистических приемов: метафор, сравнений, эпитетов.
Исследование позволило выработать «рабочее » определение стиля «плетение словес »:
ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС» - это стилистическая манера, связанная с орнаментальной прозой, в смысловом отношении ориентированная на христианский мистицизм, а в структурном отношении опирающаяся на асимметрию компонентов, каждый из которых играет существенную роль в эстетической организации текста.
Таким образом, «плетение словес » - речевая экспликация в виде «стиля » некой идеи и эстетики. Структурно-семантический и синтаксический анализ текстов «плетения словес » позволил уточнить и дополнить мнения многих ученых по поводу генезиса данной манеры письма и помог понять, какая философская идея и эстетика легла в основу данного стиля.
Не опровергая мнение акад.Д.С.Лихачева и В.В.Колесова об исихастских истоках «плетения словес », мы все же хотим несколько уточнить и дополнить данную точку зрения. Такой взгляд на происхождение представляется нам несколько односторонним, поскольку образцов поэзии исихастов, где бы реализовались их идеи на эстетическом уровне, нет. Ни Василий Великий, ни Григорий Палама, ни другие исихасты не писали свои произведения с использованием данной манеры. Следует учитывать и тот факт, что сам термин «плетение словес » был впервые использован, самим Епифанием Премудрым. Следует, однако, заметить, что сам термин не придуман Епифанием, а, скорее, заимствован из Ветхозаветной литературы, в частности, из Притчей Соломоних, что не противоречит нашей точке зрения о восточном генезисе «плетения словес ».
Исходя из сказанного, нам представляется достаточно привлекательной идея Е.М.Верещагина о «восточном » генезисе «плетения словес ». Поскольку Покровителем Епифания Троицкого (Премудрого) являлся Епифаний Кипрский, то первый на протяжении всей своей жизни был обязан подражать своему Святому. И образцом для такого подражания была не только биография Епифания Кипрского, но и его произведения. Известно, что Епифаний Кипрский состоял в сословии хахамим -«премудрых », которое сформировалось из писцов, переписчиков Танаха. Подобно тому, как пророки создавали литературу особого жанра, так и литература хахамов отличалась ярко выраженными жанровыми особенностями, одной из которых является прием суггестии. Данный прием основан не на логическом представлении мысли (эллинская школа), а на стремлении выразить мысль путем перечисления ее частных случаев. За счет этого создается общее впечатление от услышанного или прочитанного. Суггестивный метод доказательства мысли опирается на прием изоколии, повторения одной и той же синтаксической конструкции, обычно (но не обязательно) опирающийся на такие технические средства, как единоначатия и единоокончания. Подобный метод позволяет создать ритмизованный текст. Те же технические средства для создания ритмики текста, по мнению С.С.Аверинцева, использовались и в ранневизантийской литературе. Таков основной жанровый признак восточной «премудростной литературы ».
Нами были отмечены факты, позволяющие с большим процентом вероятности говорить о том, что Епифаний Премудрый использовал прием суггестии в своих произведениях именно под влиянием восточной «премудростной литературы »: во-первых, он подражал соему Ангелу -Хранителю, и, во-вторых, он сам был знаком с Ветхозаветной литературой.
Все сказанное позволяет сделать вывод, что, скорее всего, стиль «плетения словес » был самостоятельным изобретением Епифания Премудрого на славянской почве. Период конца XIV- начала XV в. явился важным этапом в истории русского литературного языка. Историческая победа на Куликовом поле вызвала высокий подъем народного самосознания, отразившийся во всех отраслях духовной культуры и прежде всего в литературе и письменном литературном языке. На Руси строится государство нового типа - централизованное. По ряду объективных причин возвышается и укрепляется новый государственно-политический центр - Москва, где утверждается идея самодержавия. Эта идея органически была связана с идеей православия. Московский царь воспринимается как преемник Византийского императора - он самодержец, хранитель православных традиций. Централизация Руси, установление самодержавия, миссия спасения славянства и православия выразилась в создании представления о Москве как «третьем Риме ». После падения Сербии и Болгарии Московская Русь осталась единственным государством, в котором православная церковь пользовалась полной поддержкой светской власти. Южнославянские церковники утверждали, что в XIV веке оплотом подлинного православия является не греческая, а славянская земля. Поэтому Московского царя они считали единственным хранителем православной веры, на него и на Московское государство и была возложена миссия спасения порабощенных турками славян и восстановление на Балканах православия, [см.подробнее об этом:Лихачев 1958].
Для Руси того времени существенное значение приобрели тесные культурные связи с Византией, Болгарией, Сербией, оказавшие заметное влияние и на письменный литературный язык. Так многообразные и сложные процессы, происходившие в русском обществе в конце XIV -начале XV в., - идеологические, политические, культурные, - приводят к значительным изменениям и в письменном литературном языке того времени, которые в науке получили название «второго южнославянского влияния».
В это время на Русь устремляются ученые, выходцы с Балкан и из Византии, среди которых такие выдающиеся деятели, как митрополит Киприан, писатель Григорий Цамблак, агиограф Пахомий Логофет, иконописец Феофан Грек. Вместе с ними на Русь попадают южнославянские рукописи, новые переводы с греческого. Тогда же Руси стали широко известны труды Дионисия Ареопагита, Иоанна Листвичника, Григория Паламы, которые оказали огромное влияние на умы видных деятелей европейской культуры.
Как нам кажется, «второе южнославянское влияние» и связанная с ним философия исихастов стали стимулом создания на русской почве такого возвышенного, патетического стиля, как «плетение словес ».
Таким образом, «плетение словес » можно назвать способом экспликации эстетики восточной «премудростиой литературы » и идей исихастов.
Структурно-семантический анализ показал, что построение Житий различно. Дискурс «Жития Стефана Пермского » разворачивается параллельно: каждому структурно-семантическому блоку соответствует какой-либо абзац (предложение, ключевое слово) в объединяющем все зачале, а также встречаются случаи цепочной развернутости дискурса , когда каждый последующий блок содержательно связан с предыдущим, распространяя и дополняя его. Предварительный анализ показал, что «плетение словес » наблюдается здесь как внутри каждого блока, так и на стыке блоков при связи их, когда ключевое слово начинает распространяться, приобретая все новые и новые определения.
При анализе другого памятника письменности , написанного Епифанием Премудрым, - «Жития Сергия Радонежского » - оказалось, что в нем, в основном, наблюдается цепочная связь между структурно-семантическими блоками, но в первом структурно-семантическом блоке есть два предложения-сигнализатора, позволяющие говорить о параллельной организации дискурса всего текста и о связи всего остального повествования в одно целое. Это довольно стройно организованный текст (в отличие от ЖСП, где наблюдается возврат к какой-то одной теме, событию).
Текст «Жития Феодосия Печерского » четко делится на 4 большие части: 1) Вступление; 2) Рассказ о жизни святого от рождения до того дня, когда он попал в пещеру к Антонию, записанный со слов матери; 3) Жизнь Феодосия и его подвиги в монастыре; 4) Заключение, повествующее о преставлении святого. В целом построение текста ЖФП традиционно и соотносится с каноническим образцом.
Основная идея текста - изображение святого по образу и подобию Христа, потому что смысл жизни Феодосия - служба Богу для спасения людей.
Сравнение «Жития Стефана Пермского » и «Жития Сергия Радонежского », с одной стороны, между собой, а с другой стороны, с «Житием Феодосия Печерского » в синтаксическом плане показало, что тексты незначительно расходятся между собой, что позволяет сделать вывод, что синтаксические конструкции в памятниках «плетения словес » остались в большинстве своем древнерусскими. Было выделено 11 отличительных синтаксических признаков, характеризующих тексты «плетения словес », но, по нашему мнению, единственное, что играет существенную роль в организации данных текстов в синтаксическом плане - это обилие конструкций с однородными членами предложения, которые зачастую располагаются в предложении по принципу иерархии.
В текстах «плетения словес » наблюдается изоморфизм выражения мысли. Мысль о цикличности, повторяемости событий выражена посредством повторяемости элементов трех уровней: на уровне лексики - это синонимия и связанная с ней полиномия , на уровне синтаксиса - это однородность членов предложения и изоколия, на уровне построения текстов - постоянный возврат к одной и той же теме, центральной идее Жития.
Вывод о самостоятельнсти изобретения Епифанием Премудрым «плетения словес » на русской почве подкрепляется еще и тем фактом, что в чистом виде данный стиль не был представлен в русском письменном искусстве ни до XIV в., ни позже. Правда, элементы «плетения словес » обнаруживаются в более поздних памятниках, «Сказание о Мамаевом побоище », «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Донского », в литературе так называемого «русского барокко », но в той полноте и красоте, в которой «плетение словес » было представлено в творчестве Епифания Премудрого, мы не встретим данной манеры письма.
Список литературы диссертационного исследования кандидат филологических наук Абрамова, Ирина Юрьевна, 2004 год
1. Античность и Византия. М.,1975.
2. Аверинцев 1981 Аверинцев, A.A. Древнегреческая поэтика и мировая литература/ С.С.Аверинцев// Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
3. Аверинцев 1996 Аверинцев, С.С. Риторика и истоки европейскойлитературной традиции/ С.С.Аверинцев. М., 1996.
4. Аверинцев 1997 Аверинцев, С.С. Поэтика ранневизантийскойлитературы. М., 1997.
5. АрхЖиприан 1996 Арх.Киприан (Керн). Антропология Св.Григория Паламы: Дисс. доктора церковных наук/Арх.Киприан. М., 1996. Ахманова Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов/1. О.С.Ахманова. М., 1966.
6. Бабайцева 1981 Бабайцева, В.В. Современный русский язык,ч.Ш.
7. Синтаксис и пунктуация/В.В.Бабайцева, Л.Ю.Максимов. М.,1981. Барт 1978 Барт,Р. Лингвистика текста/ Р.Барт//Новое в зарубежной лингвистике .- Вып.8. - М., 1978.
8. Белобродова 1966 Белобродова, O.A. О некоторыхизображениях Епифания Премудрого и их литературных источниках/О.А.Белобродова//ТОДРЛ. Т.22.-М.-Л., 1966. Белошапкова 1977 Белошапкова, В.А. Современный русский язык. Синтаксис/ В.А.Белошапкова. - М.,1977.
9. Березин 1979 Березин, Ф.М. Общее языкознание/Ф.М.Березин, Б.Н.Головин. М., 1979.
10. Буланин 1991 Буланин, Д.М. Античные традиции в древнерусской литературе XI XVI вв./Д.М.Буланин. - München. - 1991. Буслаев 1861 Буслаев, Ф.И. Древнерусская народная литература и искусство/Ф.И.Буслаев. - СПб., 1861.
11. Валентинова 2001 Валентинова, О.И. Стиль «плетение словес » в контексте истории русского литературного языка и литературы Древней Руси/ О.И.Валентинова, А.В.Кореньков. М., 2001.
12. Гиндин 1971 Гиндин, С.И. Онтологическое единство текста и виды внутритекстовой организации/ С.И.Гиндин//Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 14. - М., 1971.
13. Головин 1969 Головин, Б.Н. О статистическом моделировании грамматической структуры высказываний/ Б.Н.Головин//Проблемы прикладной лингвистики : Тезисы межвуз.конф. Ч.П. - М.,1969. Головин 1971 Головин, Б.Н. Язык и статистика/ Б.Н.Головин. - М., 1971.
14. Грихин 1974 Грихин, В. А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV XV вв./ В.А.Грихин. - М., 1974.
15. Грихин 1978 Грихин, В.А. «Извитие словес » Епифания Премудрого/ В.А.Грихин //Русская речь. 1978. - № 4.
16. Громов 1990 Громов, М.Н. Русская философская мысль X XVII вв./ М.Н.Громов, Н.С.Козлов. - М., 1990.
17. Дюбуа 1986 Дюбуа, Ж. Общая риторика/Ж.Дюбуа,Ф.Эделин. М., 1986.
18. Евгеньева 1983 Евгеньева, А.П.Словарь русского языка.
19. Т.З/ А.П. Евгеньева. М., 1983.
20. Жуковская 1981 Жуковская, Л.П. К вопросу о южнославянском влиянии на русскую письменность/ Л.П.Жуковская//История русского языка: Исследования и тексты. М., 1981.
21. Жуковская 1986 Жуковская, Л.П. Роль второго южнославянского влияния в истории русского литературного языка/Л.П.Жуковская. Горький, 1986.
22. Журенко 1991 Журенко, Н.Б. Риторика и классическая проза (о семантике рядов однокоренных слов у Ксенофонта)/ Н.Б.Журенко //Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. М., 1991.
23. Заболотский 1963 Заболотский, Н. О богословии св.Григория
25. Замалеев 1987 Замалеев, А.Ф. Исихазм и мистическая фронда нестяжательства / А.Ф.Замалеев//Философская мысль в средневековой Руси. Л., 1987.
26. Замалеев 1987 а Замалеев, А.Ф. Мыслители Киевской Руси/ А.Ф.Замалеев, А.А.Зоц. Киев, 1987.
27. Замалеев 1990 Замалеев, А.Ф. Отечественные мыслители позднего средневековья, конец 14 первая треть 17 в./А.Ф.Замалеев, В.А.Зоц. -Киев, 1990.
28. Замалеев 1995 Замалеев, А.Ф. Лекции по истории русской философии/ А.Ф.Замалеев. СПб., 1995.
29. Иванов 1965 Иванов, В.В. Славянские языковые моделирующие системы/В.В.Иванов. В.Н.Топоров. М., 1965.
30. Клименко 1986 Клименко, Л.П. Роль второго южнославянскоговлияния в истории русского литературного языка/ Л.П.Клименко.-Горький, 1986.
31. Клименко 1998 Клименко, Л.П. Нормативный аспект семантико-синтаксической организации дискурса сакральных текстов/
32. Л.П.Клименко//Четвертые Поливановские чтения: Сб. науч. ст. по материалам докл. и сообщ. 4.4. Слово в тексте (Смоленск, 19 - 20 мая 1998). - Смоленск, 1998.
33. Клименко 1998а Клименко, Л.П. Некоторые особенности организации дискурса литературно-критических статей
34. Н.А.Добролюбова/Л.П.Клименко// Н.А.Добролюбов в российской культуре и общественно-политической мысли: Межвуз.сб.науч.тр. 4.1. -Н.Новгород, 1998.
35. Клименко 2004 Клименко, Л.П.Словарь переносных , образных исимволических употреблений слов в Псалтири. 4.1, псалмы 1-50; часть И, псалмы 51 100/Л.П.Клименко.- Н.Новгород, 2004.
36. Ковалевская 1992 Ковалевская, Е.Г. История русского литературного языка/Л.Г.Ковалевская. М., 1992.
37. Кожин 1984 Кожин, А.Н. Литературный язык Московской Руси/А.Н.Кожин. М., 1984.
38. Колесов 1989 Колесов, В.В. Древнерусский литературный язык/ В.В.Колесов. Л., 1989.
39. Колесов 1989а Колесов, В.В. Мудрое слово Древней Руси (XI XVII вв)/ В.В.Колесов. - М., 1989.
40. Коновалова 1966 Коновалова, О.Ф. «Плетение словес » и плетеный орнамент к. XIV в./О.Ф.Коновалова// ТОДРЛ. Т.ХХ11. - М.- Л., 1966.
41. Коновалова 1970 Коновалова, О.Ф. Об одном типе амплификации в «Житии Стефана Пермского »/ О.Ф.Коновалова// ТОДРЛ. Т.ХХУ.- М.-Л., 1970.
42. Коновалова 1970 а Коновалова, О.Ф. Панегирический стиль русской литературы к.Х1У нач.ХУ в. (на материале «Жития Стефана Пермского », написанного Епифанием Премудрым): Автореф. дис. .канд.филол.наук/О.Ф.Коновалова. - Л., 1970.
44. Кухаренко 1988 Кухаренко, В.А. Интерпретация текста/ В.А.Кухаренко. -М., 1988.
45. Ларин 1975 Ларин, Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X сер.ХУШ в.)/ Б.А.Ларин. - М., 1975.
46. Левшун 2001 Левшун, Л.В. История восточнославянского книжного слова XI ХУПвв./ Л.В.Левшун. - Минск, 2001.
47. XVII вв. к реалистическому изображению действительности/Д.С.Лихачев. -М., 1956.
48. Лихачев 1958 Лихачев, Д.С. Некоторые задачи изучения второгоюжнославянского влияния в России/Д.С.Лихачев. М., 1958. Лихачев 1958 а Лихачев, Д.С. Человек в литературе древней Руси/1. Д.С.Лихачев. М.-Л., 1958.
49. Лихачев 1966 Лихачев, Д.С. Сравнительное изучение литературы и искусства Древней Руси/ Д.С.Лихачев //ТОДРЛ. Т.22. - М.-Л., 1966. Лихачев 1979 Лихачев, Д.С. Поэтика древнерусской литературы/ Д.С.Лихачев. - М., 1979.
50. Лотман 1970 Лотман, Ю.М. Структура художественного текста/ Ю.М.Лотман. М., 1970.
51. Мартемьянов 1973 Мартемьянов, Ю.С. Связный текст изложение смысла/Ю.С.Мартемьянов. - М., 1973.
52. Матхаузерова1976 Матхаузерова, Св. Древнерусские теории искусства слова/ Св. Матхаузерова. Прага, 1976.
53. Мейендорф 1974 Мейендорф, И.Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в 14 в/ И.Ф.Мейендорф//ТОДРЛ. Т.ХХ1Х. - Л., 1974.
54. Мелетинский 1969 Мелетинский, Е.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки/ Е.М. Мелетинский, С.Ю.Неклюдов,
55. Е.С.Новик, Д.М.Сегал //Труды по знаковым системам. IV// Уч.зап. ТГУ . -Вып.236. - Тарту, 1969.
56. Мошин 1963 Мошин, В. О периодизации русско-южнославянских связей X XV вв./В.Мошин// ТОДРЛ. - 1963. - Т. 19.
57. Мс Полный православный молитвослов и Псалтирь. М., 2004.
58. Настольная книга 1979 Настольная книга священнослужителя. Т.З. -М., 1979.
59. Отечественная 1991 Отечественная философская мысль XI XVII вв. и греческая культура. - Киев, 1991.
60. Палама 1993 Беседы (омилии) святителя Григория Паламы. 4.2. -М., 1993.
61. Палама 1994 Св. Григорий Палама. Беседы в 3-х томах/Св.Григорий Палама. М., 1994.
62. Петрова 1998 Петрова, В.Д. Повтор как текстообразующее средство в «плетении словес »/ В.Д.Петрова// Проблемы исторического языкознания и ментальности. Русский язык: ментальность и грамматика . Вып.1. -Красноярск, 1998.
63. Розенталь-Теленкова Розенталь,Д.Э.Словарь-справочник лингвистических терминов/ Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. М., 1972. Русский язык 1998 Русский язык. Энциклопедия/Гл.ред
64. Ю.Н.Караулов. 2-е изд. - М.,1998.
65. Рылов 1990 Рылов, С.А. Синтаксическая организация древнерусской речи/ С.А.Рылов. Н.Новгород, 1990.
66. Словарь XI - XVII Словарь русского языка XI XVII вв. - Вып.1.- М., 1975.
67. Сперанский 1921 Сперанский, М.Н. К истории взаимоотношений руссой и юго-славянской литератур (русские памятники письменности на юге славянства)/ М.Н.Сперанский. СПб., 1921.
68. Топоров 1995 Топоров, В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т.1. - Первый век христианства на Руси/ В.Н.Топоров-М.,1995.
69. Филин 1979 Русский язык. Энциклопедия/ Ф.П.Филин. М., 1979. Филин 1981 Филин, Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка/ Ф.П.Филин. - М.,1981.
70. Фрейберг 1978 Фрейберг, Л.А. Византийская литература эпохи расцвета. IX XV вв./ Л.А.Фрейберг, Т.В. Попова .- М., 1978.
71. Чесноков 1992 Чесноков, П.В. Семантические формы мышления и синтаксический синкретизм (два аспекта в рассмотрении синкретизмачленов предложения)/ Т.В.Чесноков// Явления синкретизма в синтаксисе русского языка. Ростов-на-Дону, 1992.
72. Шахматов 1941 Шахматов, A.A. Синтаксис русского языка/ А.А.Шахматов. JI., 1941.
73. Яковлева 1994 Яковлева, Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия)/ Е.С.Яковлева. - М., 1994.
74. Ярхо 1969 Ярхо, Б.И. Методология точного литературоведения/
75. Б.И.Ярхо//Труды по знаковым системам.-1У//Уч.зап.ТГУ.- Вып.236. -Тарту, 1969.
76. Ангелов 1980 Ангелов, Боню Стоянов. Руско-южнославянски книжовни връзки/ Боню Ангелов. София, 1980.
77. Динеков 1953 Динеков, Петър. Стара българска литература, втора част. /Петър Динеков. София, 1953.
78. Иванов 1958 Иванов, Йордан. Българското книжовно влияние в Русия * при митрополит Киприан (1375 1406): Отделен отпечатък от Известия наинститута за българска литература. Kh.VI/ Иордан Иванов. - София, 1958.
79. Malik Mulic 1963 Malik, Mulic. Srpsko "pletenije sloves" do 14 stoleca. -Radova zavoda za slavesku filologiju. № 5/ Malik Mulic. - Zagreb, 1963.1. ИСТОЧНИКИ
80. Повесть о Стефане, епископе Пермском //Древнерусские предания XI - XVI вв.-М., 1982.
81. Житие Сергия Радонежского// Памятники литературы Древней Руси. XIV-cep.XV века.-М., 1981.
82. Житие Феодосия Печерского//Повести Древней Руси XI ХПв. -Лениздат, 1983.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания.
В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.